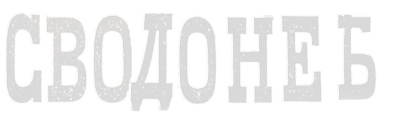Михаил Розенштейн
Иерусалим. Армянская таверна.
Поужинай в таверне у армян
при входе в Старый город. Метров двести
пройдёшь - и вот в полуподвальном месте
подержанный годами ресторан.
Здесь часто коротали вечера
мы - трезвые, и трезвые не очень,
и был привычно чем-то озабочен
официант по имени Ара.
И был счастливо чем-то удивлён
смешной турист - дорожный завсегдатай,
и сквозь завесу пыли и времён
глядел со стен привычный Бог распятый.
А жизнь была проста, как чистый лист,
где за грехи расплачиваться нечем,
и с башен, синевато-золотист,
на мостовые скатывался вечер.
Печальный иудей спешил к Стене.
И был привычно чем-то недоволен
тот муэдзин, кричавший в вышине
сквозь дальний звон прозрачных колоколен.
Но вечного безвременья печать
спала на этом мире многослойном.
И некого, и не за что прощать
нам было. И от этого - спокойно.
Счастливое детство очень часто потом превращается в вечную попытку к нему вернуться, даже ценой боли…
С чувством вины уже родился. Добрые люди оговорили маму. Восемь месяцев пустых оправданий, я был внутри. Я всё чувствовал. Её боль и чистоту, раздраженность отца, штамп чужой ребенок.
Это осталось и по сей день…Это трансцендентальное чувство вины за все – за плохую погоду и войну в Иране, за пожары в Африке и неудачную последнюю подтяжку лица Гундаревой, даже за несчастья Андерсена, после фильма Рязанова…Это глупость, я знаю. Но так случилось, и от этого очень трудно избавиться. Если только найти похожего человека и увидеть через него свои проблемы. Но, иногда мы смотрим не туда. И первый раз получился не блин комом, а наверное ком в горле, горле, дороже которого сегодня у меня ..
В детстве, когда мир еще не рухнул и не разбился, где все взрослые войны – большие и малые – половые и энергетические, начинаются с короткого слова – мой, так вот там в детстве , тоже мое, но оно равнозначно и ценно нашему. Там можно есть смородину с соседского куста и искренне делиться с друзьями, можно разбить ему лицо и через полчаса делиться секретами, там все общее и личное одновременно. Сегодня я смотрю оттуда. И вижу. Наше небо, наших мальчиков, наших девочек, наши стихи. И даже мои – уже наши. Осталось вино. Потому что вины нет. И не было. И вообще это игры взрослых за власть.
Грех так же отличается от причины, как вино от вины. Есть неверные поступки и их следствия. Теперь я учусь и учу жить так.
Представляете, заходите в кафе, со старым приятелем, вроде друга детства, отпустить на покой еще один вечер, причастив его кружкой вина или пива, а у столика вывеска – Не воруй…
Не знаю, как с аппетитом, но осадок тихой грусти, и волна разговора другая, и печаль, светлая, без вины виноватая об изначально обозначенной порочности, назначенной человеку человеком. Богоизбранные сами себя такими назначают. И грешники сами себя назначают грешниками. Так получилось. Сначала называют, а потом становятся. Но не наоборот. Или их назначают, здесь страдательность причастий обоюдонаправленная.
Не убий…не желай…не обманывай..
Всё правильно. Но холодно.
А если бы вместо – помоги, пойми, поделись…
Злых бы меньше не стало, становилось бы больше добрых. Так нельзя воевать против войны, нужно создавать мир.
Третий век рождённых в грехе. Первородная растяжка на любви и гордыне, уме и сердце, земле и небе.
Пусть Небо будет пухом всем, кто сюда приходит и придёт.
и сквозь завесу пыли и времён
глядел со стен привычный Бог распятый.
Недавно в случайном разговоре избитая фраза, это была еще первая, юношеская, чистая любовь…
Вспомнил про булгаковскую свежесть. Любая, первая или последняя, чистая, если любовь…
Химики вывели окситоциновый интеграл любви, объяснили причину прекрасного порока и рая на земле одновременно. Только тройку пристяжных поставили сзади телеги. Она так и осталась тайной, сколько волка не корми гормонами, он не полюбит, пока не встретит такого же волка.
Есть базовые вещи, наше техобслуживание и обеспечение жизни, с которым мы падаем сюда на Землю. И мы зависим от них, как машина от марки бензина.
Это наши инстинкты – наша опора и прорва, пропасть и гора…
Нам нужно есть, даже если тебе противно зарабатывать, а ты рожден, чтобы искать на палитре оттенки облачного неба в начале июня.
Мы все равно боимся умереть, даже когда не хотим оставаться. От любви не умирают, от неё не живут, написал ребенок Богу. Нас очень часто ставят к стенке там, где страх замуровывает нас на годы , особенно если с детства ты ненавидишь насилие, любое. Словом, пощечинами или равнодушием.
И самый краеугольный для человека инстинкт, который может закопать и вознести, который тебя поднимает, роняя, и роняет, когда ты задираешь нос. Который может сделать тебя марионеткой, если ты принимаешь его не как дар, а как обязательство. Та самая окситоциновая фабрика, она тоже нужна, чтобы больше хотелось жить.Чтобы помнить, что взрослые – бывшие птицы и уставшие дети. Что на Земле так плохо не потому, чтобы нам было легче умирать, а потому что кончился окситоцин , но даже если, как у Оруэлла вы уколетесь, или у Замятина – съедите розовую таблетку, ты все равно не поймёшь, что когда ты опускаешься перед любовью на колени, ты не прогибаешься, ты возвращаешься Домой.
Люди это свет. Значит это волна и частица. Тело – частица, остальное – волна. Нас можно ловить на сердца движком как радиостанции. И если правильно подстроиться, можно не только беседовать с Шекспиром, но даже снимать головную боль у друга. Можно увидеть мир глазами Ван Гога, если твое сердце раскрыто тому, к кому ты обращен. К сожалению, страшилки и синдром Кашпировского – это не шутка, это современный триллер, который ежедневно косит стога неокрепших душ .
Любовь – универсальная отмычка для сердец, после веры, но ей нельзя обучить. Она должна случиться. Чтобы вернуться Домой.
А жизнь была проста, как чистый лист,
где за грехи расплачиваться нечем,
и с башен, синевато-золотист,
на мостовые скатывался вечер.
Стихи, их нельзя понимать. Их можно только терпеть, любить, обожать, раздражаться , ненавидеть или мимо.
Поэт, почти всегда говорит с небом, и если ему удается принять привет о Настоящем, и получается это оставить в стихах, если там есть любовь, настроение, грусть, истина, непреложная , но и не продажная, за которую вечно страдает Платон, такие стихи хочется перечитать. Потому что все это там теперь навсегда. И сколько бы вы не читали – хорошего из них не убывает. Мы перебираем их как чётки. И когда нам плохо, они, проникая в сердце, могут перестроить его контур на другой диапазон, и Вы даже не заметите, как меняется Ваше настроение.
Нам нужно, чтобы нас понимали. Но более того, нужно чтобы понимали и мы. Нам нравится понимать…
Вечер с друзьями ни о чём. Мы трезвые и трезвые не очень.
Человек – как мера вещей на земле. Как писали дети, бог выдумал нас, а мы бога, и еще не известно, у кого это получилось лучше.
Стихи это то немногое, где не стоит сравнивать хризантемы и фиалки, всё равно анютины глазки лучше.
Обрядовость любой религии, пляшет не от Бога, а от человека. И из всех противоречий, всегда можно сплести единый центр – человеческое я.
Питье и еда, те , из разряда обычных человеческих инстинктов – причащение, поминки, жертвы. Помните – скажите, мне кого вы съели и я скажу кто вы. Мы едим пищу, которая тоже обладает своей волной. Кровь несёт к сердцу питательные соки Киндзмараули или винограда, и оно излучает его частоту. Если вы за общим столом, то похожей пищей вы просто на время объединяетесь со всеми по принципу тайной вечери. Может быть, шутка про сердце мужчины тоже из этой плоскости. Но, отбросив физику, преломив один хлеб за столом, даже с неизвестным человеком у кого-то в гостях, вам будет трудно увидеть в нем чуждого или даже чужого. Хоты бы на то короткое время , пока вы вместе за одним столом.
Может быть, отсюда культ еды как единства и перешел в обрядовость – причащения, поминания, жертвенных обедов. Миражи и жажда единства, усталость от одиночества изначального с глубинным ощущением Дома, стол как разделение боли и умножение , если не радости, то хотя бы покоя.
Потому что мы все здесь на время, с близким набором проблем , многие из которых придуманы до и вместо нас «ошибками отцов и поздних их умом».
Печальный иудей спешил к Стене.
И был привычно чем-то недоволен
тот муэдзин, кричавший в вышине
сквозь дальний звон прозрачных колоколен.
Но вечного безвременья печать
спала на этом мире многослойном.
А когда получается преломить безвременье, почувствовав себя маленьким целым огромной части, ты понимаешь, что грустная сказка про первородный грех – по всем нам прошлась как стерилизатор. И потому, разделив с друзьями вино и хлеб, становится спокойно, потому что ты понимаешь Истину, а не правду
И некого, и не за что прощать
нам было. И от этого - спокойно.
Из Писем Богу
Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чём мы с тобой говорили?
Игорь, 3 класс.
Мальчик вырос. И стал сниться сам. И все, кому он приснился, потом писали стихи. Однажды он приснился мне.
Лежит апельсин, видишь,
Красивый, пахучий – один.
Раздели на дольки,
Угости компанию,
И у каждого в воспоминаниях
Останется рыжее чудо,
Числом, равным кусочкам.
Целое частью может делиться счастьем,
И целого будет больше.
Делиться – искусство Солнца,
Вбирать – призвание дня,
Рассыпанного для тебя, меня, них.
По китайцам я змея, по друидам – яблоня, может, поэтому это первородное греховодное художество в моей жизни так укоренилось и проросло.
Мне очень повезло в жизни, хотя иногда она тоже огрызается и говорит – кю. Когда я перестаю ценить то, что есть – неповторимый обитаемый остров на море бога Вишни и подаренный заводной апельсин.
На апельсиновой волне я и живу.
Если Вам будет грустно, перечитайте стихотворение Михаила Розенштейна и вспомните цитрусовый запах, закройте глаза и почувствуйте, как внутри зашуршали сердечные шестерёнки. Когда глаза откроются – вы улыбнётесь. И станет тепло и светло. Потому что вы прикоснулись к доброму чуду памяти, где вас любят и ждут.
Потому что очень скоро еще одна Весна.
|