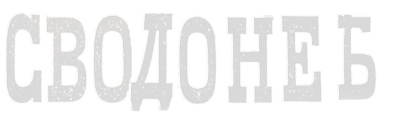Hhhhh
Поэтика «серебряного века», о которой идет речь,— это прежде всего поэтика русского модернизма. Так принято называть три поэтических направления, объявивших о своем существовании между 1890 и 1917 гг.: символизм, акмеизм, футуризм (если в символизме различать старшее поколение — Бальмонта и Брюсова — и младшее — Блока и Белого,— то таких направлений будет четыре). В каждом направлении, как это обычно бывает, выделялось небольшое ядро мастеров, задававших тон, а вокруг них — рядовые участники, разрабатывавшие, скрещивавшие и развивавшие достижения мастеров, и периферийные авторы, улавливавшие отдельные черты направления и свободно сочетавшие их с чертами других направлений. Возможностей для появления таких поэтов «вне групп» с течением времени и с размежеванием основных направлений становилось все больше: те из них, кто сформировался в пору господства «чистого символизма», не похожи на тех, кто вырабатывал свою манеру тогда, когда уже можно было лавировать между символизмом, акмеизмом и футуризмом. К 1917 г. очертания основных направлений уже настолько расплылись, что все не желавшие прослыть отсталыми одинаково свободно пользовались «символистскими вздохами и футуристскими криками»…
Hhhhh
Модернизм никоим образом не исчерпывает русскую поэзию начала века. Стихи модернистов количественно составляли ничтожно малую часть, экзотический уголок тогдашней нашей словесности. Массовая печать заполнялась массовой поэзией, целиком производившейся по гражданским образцам 1870-х годов и лирическим образцам 1880-х годов. Модернисты намеренно поддерживали этот выигрышный для них контраст, они не только боролись за читателя, но и отгораживались от читателя (настолько, на¬сколько позволяла необходимость все же окупать свои издания). Это и привлекало к ним всеобщее внимание — особенно наглядно в конце рассматриваемой эпохи, когда высокомерная надменность Игоря Северянина и вызывающий эпатаж Бурлюка с компанией одинаково гарантировали им шумный успех у публики…
Hhhhh
Модернизм не только в русской, но и во всей европейской литературе сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия — смену больших исторических эпох. XIX век с его «европоцентризмом, антропоцентризмом, позитивизмом и эволюционизмом заканчивался. Культура из европейской стала мировой, открыв для себя цивилизации с совсем иным видением мира. Наука, раздвинув рамки познанного, встала перед аксиоматикой познаваемости и начала искать иррациональные опоры своему рационализму. Искусство, до предела сблизившись с действительностью в своем реализме, встало перед реальной угрозой самоуничтожиться, растворившись в действительности, и от¬ шатнулось к противоположной крайности — к программе «искусства для искусства». (Формулу эту долгое время было принято считать реакционной, однако справедливо за¬ мечено: возникновение ее только означает, что в сознании общества потребность в искусстве выделилась из слитного комплекса других потребностей, а это лишь обогащает духовную жизнь человека.) Разумеется, на первых порах эти сдвиги в системе ценностей ощущались как кризис и упадок, тем более что представители новых течений сами афишировали свой разрыв с традиционной моралью и традиционной эстетикой. Отсюда слова «декаданс», «упадочничество», широко ходившие по критике и публицистике конца XIX в., но определенного терминологического значения не получившие и ничьим самоназванием не сделавшиеся.
Hhhhh
Декларации относительности всех ценностей и равноправия всех истин нашли в русской поэзии наиболее полное выражение у Валерия Брюсова: «Я все мечты люблю, мне дороги все речи,/И всем богам я посвящаю стих...», «Неколебимой истине/Не верю я давно,/И все моря, все пристани/Люблю, люблю равно./Хочу, чтоб всюду плавала/Свободная ладья,/И Господа и Дьявола/Хочу прославить я...». Пределом такого идейного своеволия оказывался «культ мгновения», стремление запечатлевать и увековечивать самые мимолетные состояния души, сколь бы они ни противоречили друг другу в общем своде,— титул такого «певца мгновений» носил Бальмонт. Пестрота, многообразие и переменчивость толкали по контрасту к утверждению чего-то единственно истинного, непосредственно не постижимого, но стоящего за «мнимостью» видимого мира.
Hhhhh
Для Федора Сологуба этой единственной истиной было солипсическое Я, творящее мир как собственную фантазию и иронически играющее несовпадениями мира непретворенного и претворенного («Альдонсы» и «Дульцинеи»). Для большинства других поэтов — Бог, понимаемый по-разному Зинаидой Гиппиус, Вяч. Ивановым, «пантеистом» Бальмонтом, «соловьевцами» Блоком и Белым и т. д., но всегда соотносимый с явлениями этого мира и прежде всего с жизнью поэта, его исканиями, любовью и страданием. Отношение к Богу варьировалось в самых широких пределах — от апелляций к сложнейшему даже для современников историко-религиозному аппарату у Вяч. Иванова через агностическое требование молчать о несказуемом у акмеистов и до однообразного богоборства у футуристов,— но тема эта присутствует как центр или фон почти у всех поэтов эпохи.
Hhhhh
Соответственно с этим перестраивается вся система тематики новой поэзии. Социальные, гражданские темы, стоявшие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами — Жизни, Смерти, Бога; серьезно обсуждать вопросы социальной несправедливости «в мире, где существует смерть», писали акмеисты,— это все равно, что ломиться в открытую дверь. Пафос «конца века», неминуемой гибели этого мира, воля к смерти (особенно ярко выраженная у Сологуба) — непременные черты поэзии этой эпохи, но они неизбежно рисуются во вселенских апокалиптических масштабах, свободными от всякой общественной конкретности, а образ поэта — это, как правило, образ одинокого пророка-сверхчеловека, провидящего бездну, невидимую другим («я одинок, как последний глаз...»— еще у Маяковского). Лишь сравнительно редко, как у позднего Бло¬ка, эта картина обреченности дополняется картиной будущего обновления человечества, очищенного мировым катаклизмом (идеальный блоковский образ «человека-артиста» будущего, идущий опять-таки от Ницше)...
Hhhhh
Вместе с центральными темами меняются и периферийные. Демонстративный уход от повседневной действительности толкает модернистов (как когда-то романтиков) на поиски экзотики. В истории ищет экзотики Брюсов (а за ним многочисленные подражатели), из книги в книгу посвящая стихи героям античной истории и мифологии (А. Кондратьев добавляет к этому новооткрытую древневосточную мифологию, С. Соловьев, Вяч. Иванов, Эллис и другие — христианскую). В географии — Бальмонт, пишущий целые книги и разделы книг об ацтекской Мексике, Египте, Полинезии, куда заносили его путешествия; в этом ему следует Гумилев с его африканскими поездками. В окружающем быту экзотикой становится город: до сих пор он рисовался в поэзии разве что мрачным фоном существования униженных и оскорбленных, теперь он предстает как соблазн электрического великолепия, средоточие роскоши и разврата накануне апокалиптической гибели. Здесь открывателем темы стал Брюсов, опираясь на опыт Верхарна во французской поэзии. Напротив, традиционная тема русской природы и русской деревни отступила на второй план, создав дальний фон темной таинственности и загадочности, откуда предстоит выступить еще не сказавшему своего слова русскому народу: такова Россия у Блока от «Пузырей земли» до «Родины», на фоне этих ожиданий вступил в поэзию Клюев. Вечная тема любви раздваивается на бесконечно возвышенную и религиозно окрашенную любовь, сливающуюся с любовью к Богу, и удушливо на¬ каленную земную эротику, впускающую в поэзию все, что раньше считалось извращениями, от нимфомании до некрофилии (эпатирующее брюсовское «Приходи путем знакомым...»); то и другое охотно скрещивалось, и плотские страсти кощунственно уподоблялись страстям Христовым…
Hhhhh
Далее решительному пересмотру подверглось самое заметное в стихах — их версификационная форма. Вторая половина XIX в. обходилась пятью силлаботоническими метрами, да и из них использовалась лишь малая часть возможных размеров с устоявшимися однообразными ритмами и привычными рифмами. Начало нового века стало временем глубоких перемен в русском стихе. Были открыты новые, свободные от традиций чисто тонические размеры: более простые, как дольник («Вхожу я в темные храмы...» Блока), более сложные, как те, которыми под конец нашего периода широко стали пользоваться Маяковский, Шершеневич, а за ними бесчисленные подражатели. В традиционных ямбах и хореях ожили ритмы, забытые с XVIII в.; само звучание стиха могло теперь независимо от слов напоминать искушенному читателю о торжественности Державина или живости Пушкина. Бальмонт ввел в широкое употребление сверхдлинные строки классических размеров, это подхватил его вульгаризатор Игорь Северянин. На протяжении одного стихотворения, даже небольшою, размер стал меняться по нескольку раз в зависимости от перемены ситуации, настроения, чувства,— образцом стала «Снежная маска» Блока, пределом — «микрополиметрия» поэм Хлебникова и Маяковского. Наряду с точными рифмами открываются неточные: сперва простые («ветер—вечер», «ветер—на свете», «вечер—нечем», немного позже — «плечо—ни о чем», «лучи—приручить»), потом все более сложные, в конце нашего периода (например, у Эренбурга) сплывающиеся в сплошную пелену не¬ определенных созвучий, из которой каждый автор делает отбор по своему вкусу…
Hhhhh
Но главная область работы лежала в промежутке между этими крайними областями словесного искусства: построением стихотворной книги и построением стихотворной строки или строфы. Главным было создание нового по¬ этического языка для передачи нового душевного опыта европейского человека. Точных слов для передачи новых душевных состояний не существует, настаивали модернисты, поэтому поэзия точных слов должна уступить место поэзии намеков на несказуемое. «Я — раб моих таинственных/Необычайных снов.../Но для речей единственных/Не знаю здешних слов»,— декларировала 3. Гиппиус еще в 1896 г. В поэзии предыдущего периода, второй половины XIX в., значение слова в стихе точно равнялось значению слова в словаре. В новой поэзии слова приобретали новые значения, порождаемые контекстом и, как правило, более расплывчатые и более окказиональные, применимые только для данного случая. «Цель символизма — рядом со¬поставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение»,— писал Брюсов в предисловии к I выпуску «Русских символистов»...
Hhhhh
На фоне быстро примелькавшейся высокой образности раннего и зрелого символизма контрастно выделились и приобрели многозначительность «простые предметы», введенные в поэзию Белым, Кузминым, а затем акмеистами: «поджаренная булка» Кузмина, «хлыстик и перчатка» Ахматовой оказались способны будить не меньше ассоциаций, чем «бездонный провал» и «вечность»; бунинское «хорошо бы собаку купить...» оказалось не менее выразительно, чем красноречие Бальмонта. Контрастное оттенение при этом оставалось очень важно: когда в «Весне» Белого «Фекла... протирает оконные стекла», это воспринимается лишь на фоне традиционно-поэтического «В синих далях блуждает мой взор...»; когда Ахматова пишет «я на¬ дела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней», это неизбежно влечет концовку: «А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду».
Hhhhh
Отсюда было два пути: один — в юмористическую поэзию, где многозначительность отвеивалась и оставался не особенно приглядный богемный быт: по этому пути пошел П. Потемкин; другой — в нагнетание шокирующего безобразия, которое тоже притязало на символическое богатство смысла: отсюда нечисть и похабство в стихах Нарбута, «дохлая луна» и «червивые звезды» у Бурлюка, «запах псины» у Крученых, «улица провалилась, как нос сифилитика» у Маяковского…
Hhhhh
Лучше всего выразил это ощущение освобождения слова от его словарного значения О. Мандельштам в статье «Слово и культура»: «...зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь — хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела» (читатель заметит реминисценцию из Тютчева). Явилось ощущение, что в стихах допустимо «все равно какое» слово независимо от смысла, лишь бы интуитивно чувствовалась его уместность. О самом Мандельштаме рассказывали, что он сперва сочинил строки: «Я так боюсь рыданья аонид,/Тумана, звона и зиянья!»— а потом стал спрашивать: «Кто такие аониды?» Аониды — одно из имен Муз, и по смыслу они вполне подходят к контексту, но Мандельштам, несомненно, вспомнил о них не по смыслу, а по экзотическому звучанию «ао», которое как раз и было «зиянием» (в словесности так называется столкновение гласных в слове или между словами, но, конечно, в стихотворении учитывается и буквальное, «страшное» значение этого слова). ..
Hhhhh
Действительно, когда от семантики слова остается только смутный ореол, то на первый план выступает фонетический, звуковой образ слова, в свою очередь напрашивающийся на семантизацию — может быть, совсем иную. Символисты были внимательны к трудам Потебни, учившего за стершейся внешней формой слова видеть внутреннюю форму слова, изначально художественно-образную. Вступала в силу «поэтическая этимология», родная сестра «народной этимологии» — нимало не научная, зато притязающая на интуитивно воспринимаемую художественность. Каждый звук русской речи начинал ощущаться «естествен¬но значимым» (важным толчком к этому был знаменитый сонет Рембо об окраске французских гласных: «А черный, белый Е, И красный, У зеленый, О синий...»); под это иногда подводились кстати сочиняемые теории («Поэзия как волшебство» Бальмонта, «Глоссолалия» Белого, «обще¬человеческая азбука» Хлебникова), порой очень сложные, как в антропософских построениях Белого. Психологическая основа этих теорий была одна и та же: группа слов (обычно своего родного языка), насыщенная тем или иным звуком (или начинающаяся с этого звука), окрашивала этот звук своими значениями; так, из слов «чаша, череп, чан, чулок...» Хлебников выводил, что звук Ч означает «оболочку», а из слов «хата, хижина, халупа, хутор, храм, хранилище» — что звук X означает «ограду». Этимология такого рода для звука Л дала Хлебникову материал для целого стихотворения «Слово о Эль».
Hhhhh
Первым следствием такого внимания к звуковому составу слова было усиление заботы о евфонии, о благозвучии, о звуковых повторах в слове. Слова стали подбираться друг к другу не только по смыслу, но и по звуку (в современной науке это называется «паронимической аттракцией» — «притяжением по звуковому подобию»)…
Hhhhh
Расплывчатость семантики подчеркивалась даже таким непривычным для русской поэзии средством, как графика стиха. Уже у Андрея Белого стихотворные строки начинают дробиться, смещаться, отдельные слова — самые неожиданные — выделяться: это как бы указание читателю на особую эмоциональную значимость этих слов. В поздних стихах Белого игра такими сдвигами строк доходит до фантастической изощренности — по замыслу автора она должна была внушать читателю игру интонацией («мелодией»), но вряд ли этот замысел правильно и единообразно понимался всеми читателями. (Потом, уже после революции, в сильно упрощенном виде этот прием был усвоен Маяковским в его «лесенке» строк.) Футуристы пошли еще дальше, чем Андрей Белый: они стали пользоваться шрифтовыми выделениями, перебивать обычный текст прописными буквами, жирным шрифтом, доходя порой до афишной вычурности с прямой целью озадачить читателя…
Hhhhh
Несмотря на эти графические экстравагантности, общей подосновой всех экспериментов с семантикой слова — от осторожного расшатывания ее у символистов до эпатирующего футуристического «дыр бул щыл» — было нечто прямо противоположное: «музыка», иррациональное воздействие на читательское подсознание, суггестивное возбуждение трудноопределимых эмоций, своих и неповторимых у каждого читателя, но в конечном счете уводящих в одном направлении — к непознаваемой стихии, лежащей по ту сторону видимого мира, которую нельзя определить, а можно лишь передать в намеке. «Музыка идеально выражает символ. Символ поэтому всегда музыкален»,— писал Белый («Символизм как миропонимание»)…
Hhhhh
Программным для модернизма было знаменитое стихотворение Верлена «Искусство поэзии», начинавшееся лозунгом «Музыка — прежде всего!» и продолжавшееся: «долой краски — да здравствуют оттенки!» и «сверните шею риторике!», причем под риторикой имелась в виду простая логика, апеллирующая к разуму и лежавшая в основе всех традиционных построений стихотворной композиции. Ранние символисты сознательно копировали французские образцы — первый выпуск «Русских символистов» Брюсова открывался вызывающе-непонятным французским эпиграфом из Малларме: «Кружево истлевает в сомнении высочайшей игры»…
Hhhhh
Впрочем, не все заветы Верлена в равной степени реализовывались русским модернизмом. «Музыка — прежде всего!», возбуждение эмоциональных ассоциаций вместо логических связей, было общим и для символизма, и для акмеизма, и для футуризма….
Hhhhh
Футуризм в своем подходе к построению стихотворения был подготовлен целым рядом проб, предпринятых стихотворцами, весьма далекими от футуризма. Недаром Брюсов все свои отклики на футуристические выступления сопровождал напоминаниями, что «всё это уже было» на первых шагах символистов. Именно здесь, можно сказать, пролегла магистральная линия русского модернизма, нашедшая продолжение и в позднейшей поэзии…
Hhhhh
Следующий шаг к усложнению — смещение сочетаемых элементов: пунктир, по которому читатель восстанавливает очертание рисунка, движется как бы зигзагами. В грамматическом плане примером такого смещения были цитированные лившицевские «Люди в пейзаже»: «Долгие о грусти ступаем стрелой...» — это была редкость. В семантическом плане этот прием употреблялся гораздо чаще. Пример — сравнительно простое стихотворение Мандельштама «Домби и сын». Фон его лирического сюжета — свистящий английский язык, грязная Темза, дожди и слезы контора и конторские книги, табачная мгла, «сломанные стулья», «на шиллинги и пенсы счет», судебная интрига, железный закон, разорение и самоубийство: набор образов, действительно кочующих у Диккенса из романа в роман. Но на этом фоне сменяются образы: «Я вижу Оливера Твиста/Над кипами конторских книг» — «Контора Домби в старом Сити» — «...нежный мальчик Домби- сын/Веселых клерков каламбуры/Не понимает он один» — «Как пчелы, вылетев из улья,/Роятся цифры круглый год» — «И вот, как старая мочала,/Банкрот болтается в петле» — «И клетчатые панталоны,/Рыдая, обнимает дочь». Оливер Твист — персонаж из совсем другого романа, чем заглавный; в конторе он никогда не работал; Домби-сын с клерками не общался; судебной интриги в «Домби и сыне» нет; банкрот в петле явился, скорее всего, из концовки третьего романа, «Николас Никльби», но любвеобильная дочь опять возвращает нас к «Домби и сыну». Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический образ диккенсовского мира…
Hhhhh
Еще один шаг — и сочетаемые элементы уже не сополагаются, перебивая друг друга, а налагаются и сквозят Друг сквозь друга, ассоциации же между ними перестают быть очевидными («все из Диккенса») и становятся трудноуловимыми…
Hhhhh
Таким образом, так или иначе, вся поэтика модернизма оказывается рассчитана на активное .соучастие читателя: искусство чтения становится не менее важным, чем искусство писания (а в последующем развитии западного модернизма и постмодернизма даже более важным)…
Hhhhh
Hhhhh
С полным текстом статьи М.Л.Гаспарова можно ознакомиться здесь:
Hhhhh
http://destructioen.narod.ru/gasparov_ser_vek.htm
Hhhhh
Hhhhh
Hhhhh
Hhhhh
|