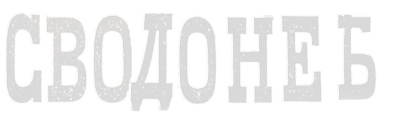Взгляд в зеркало всегда заключал в себе для человека нечто от мистического ужаса: отражение чисто физическое, а в то же время — словно взгляд из инобытия, отчужденный, не отмеченный личностным отношением. Зеркало двойственно по природе своей: предмет бытовой и мистический одновременно, оно дает нам картину мира, казалось бы, абсолютно точную, а на самом деле в высшей степени иллюзорную. “Изображение тождественно оригиналу и одновременно отлично от него; результат — парадокс тождества: (А=А) & (А^А)”1 . Взгляд в зеркало фиксирует раскол нашего “я”: на неоформленное, а потому бесконечное, представление личности о себе и лик завершенный2 . Законченный образ незавершенного. И напротив, множество зеркальных отражений, казалось бы, воссоздает многомерный и разноплановый (а значит, истинный?) лик мира сего, а в то же время дробит тот целостный его образ, который возникает у нас, когда мы смотрим на него с единственной точки зрения.
Зеркало отражает и искажает реальность — вот главный парадокс, сокрытый в самой его природе.
Бесчисленное множество парадоксальных и неожиданных эффектов, возникающих при общении человека с зеркалом, предопределило ту огромную роль, которую этот предмет — элемент быта и часть интерьера, художественная метафора и символ — сыграл в истории культуры .
Зеркальная метафора оказалась фундаментальной в теории отражения реальности в искусстве. Для реалистической литературы XIX века знаковой стала знаменитая метафора Стендаля о “зеркале”, с которым идет писатель по дороге жизни и которое точно отражает все, что встречается на пути. Но уже Достоевский писал: ““Надо изображать действительность как она есть”, — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального <…> Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность” .
В ХХ веке эта мысль о субъективной природе эстетиче-ского воссоздания/преображения жизни получила развитие в концепции “жизнетворчества”. “Психическое начало, — писал Ю. Айхенвальд, — не порождение, а, наоборот, создатель жизни <…> и художество, в частности литература, представляет собою вовсе не отражение, или, как нередко говорится, зеркало действительности <…> рабская работа зеркала человеку вообще не свойственна. Зеркало покорно и пассивно. Безмолвное зрительное эхо вещей, предел послушания, оно только воспринимает и уже этим одним совершенно противоположно нашей действительности. Создание последней, литература, поэтому далеко не отражение. Она творит жизнь, а не отражает ее. Литература упреждает действительность; слово раньше дела…”
Искусство модернизма проявило исключительный интерес к феномену зеркальности и многообразным эффектам, им порождаемым (Ш. Бодлер, О. Уайльд, Л. Андреев, В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, А. Белый, М. Волошин, В. Ходасевич и многие другие).
Собственно, само представление о том, что за зеркалом существует некая реальность, иной мир и иная жизнь, весьма древнее. Его истоки — в сознании мифологическом. “ЗЕРКАЛО — символ связи нашего мира с параллельным. Первобытная магия предостерегала человека от вглядывания в свое отображение. Считалось, что призрачный двойник способен его погубить, утащив в зазеркалье” . Зеркало воспринималось как граница между реальностью земной и инобытийной. Такое понимание зазеркалья усвоила литература эпохи романтизма (сказочные повести Э. Т. А. Гофмана, концепция “зеркального человека” Г. фон Клейста и др.), где зеркальная поверхность не столько отражала реальность мира физического, сколько воссоздавала его мистический подтекст. Зеркальная метафора стала структурообразующей для романтиче-ского “художественного двоемирия”, а позднее для мистиче-ского реализма ХХ века.
Но героиня сказки Л. Кэрролла, перешагнув за грань зеркала, оказалась не в мистической реальности, а в мире собственного воображения, освобожденного от пут и ограничений законов материального мира и его рациональной логики. Она вышла в зазеркалье своего сознания.
По этому пути устремилась вслед за Алисой “метафикциональная проза” конца 20-х — 50-х годов ХХ века.
В определенном смысле канонические ее версии создали Герман Гессе, Владимир Набоков и Михаил Булгаков. Внешне столь непохожие, эти писатели обнаруживают при внимательном рассмотрении внутреннее сродство как философского видения мира, так и на уровне культурного сознания, а также в сфере художественного мышления. Главный фактор этой типологической корреляции — общность эстетической концепции мистического (или фантастического, магического) реализма .
Читателю Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова “вторая реальность” их художественных текстов, сплавившая в единое целое мистический подтекст “жизни действительной” и фантазийные видения писателя-Демиурга, открывается сквозь призму зеркальной образности их произведений/
В фокусе творческих интересов Г. Гессе — бытие индивидуального сознания личности. В “Степном волке” это главный субъект и объект изучения, причем для писателя характерен интерес к закономерностям бытия текущего сознания, а не к устойчивому нравственно-психологическому ядру личности. “Ведь человек, — пишет Гессе в “Степном волке”, — не есть нечто застывшее и неизменное <…> а есть скорее некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий, опасный мостик между природой и Духом <…> он в лучшем случае находится на пути, лишь в долгом паломничестве к идеалу <…> гармонии”.
На воображенном и сотворенном пространстве “Магиче-ского театра” бытия сознания совершаются главные события книг Гессе, а тема “потусторонности” органично вплетена в картины, воссоздающие перипетии великих психодрам.
Гессе свойственна концепция многосложности души человеческой, близкая буддийской философии, к которой писатель проявлял большой интерес (“Сиддхартха”, “Паломничество в Страну Востока”). “Любое “я”, — пишет он, — даже самое наивное, — это не единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей <…> Тело каждого человека цельно, душа — нет”. Даже представление о двойственности, а уж тем более цельности внутреннего мира человека — всеупрощающая фикция. “Человек — луковица, состоящая из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей”. Идеальная форма постижения “многослойности” — поэзия Древней Индии, где герой предстает как “скопище лиц, ряды олицетворений”.
Свою концепцию человека Гессе реализовал в развернутой метафоре “Магического театра” — в сложно, порой асимметрично организованной системе зеркал.
На пороге его перед героем, Гарри Галлером, было поставлено первое зеркало, дающее как бы абрис его личности. В нем он увидел “жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину — себя самого <…> а внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль <…> Печально, печально глядел <…> текущий, наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами”. А далее Гарри оказывается окружен системой зеркал, каждое из которых отражает и позволяет до конца реализоваться той или иной части его души, состоянию или качеству.
Принцип зеркальности реализует себя и в композиции романа. Его структурные части — своего рода зеркала, поставленные автором перед героем и в различных ракурсах, в разных масштабах освещающие грани его души. Сначала, во вступительной части, Гарри увиден глазами простого, но доброжелательно к нему настроенного мещанина — с этой точки зрения герой предстает человеком странным, вызывающим сочувствие, но отнюдь не понимание. “Записки Гарри Галлера” — опыт написания автопортрета изнутри сознания, страдающего и раздираемого экзистенциальными противоречиями. “Трактат о Степном волке” — “контур его внутренней биографии” — дает типологический очерк личности. Эту часть отличает глубокое проникновение в тайну души героя, в то же время это взгляд холодный, напряженно ироничный. И, наконец, разноплановое и разноуровневое, анархическое (иерархически не структурированное) изображение внутреннего мира героя в “Магическом театре” представляет картину многомерного бытия сознания Гарри.
Композиционная модель романа фрагментарна и одновременно целостна благодаря четко организованной мотивной структуре: художественную ткань произведения прочерчивают мотивы сумасшествия, самоубийства, музыки, Гете — Моцарта — бессмертия, юмора–смеха, а также ведущая тема Степного волка.
Несмотря на то, что Набокова и Булгакова отличает несколько иное, чем у Гессе, направление их творческих интересов, однако поэтическую структуру “Степного волка”, нарративную и сюжетно-композиционную, можно считать своеобразной “матрицей” “метафикциональной прозы” ХХ века. Доминантную роль в сотворении “второй реальности” художественного мира, когда система зеркал творит внутри метафикционального зазеркалья, играет зеркало, выполняя тем самым креативную функцию.
У Набокова аллегорическое зеркало может быть средством постижения, в том числе и творческого, сокровенной тайны личности. Так образ-мотив зеркала полуявно, но весьма многозначительно прочерчивает художественную ткань романа “Защита Лужина”. Оригинальный принцип сотворения образа героя применил Набоков в “Отчаянии”: автор окружает персонажа системой “реминисцентных зеркал”, каждое из которых высвечивает то, что созвучно творческому миросозерцанию трех великих писателей XIX века — Пушкина, Гоголя и Достоевского. Сам Набоков выступает в роли дирижера, управляющего симфонией реминисцентных отражений, складывающихся наконец в целостный образ героя своего времени — пошлого обывателя, обуреваемого манией величия и жаждой публичной славы.
Характерен для Булгакова и Набокова, как и для Гессе, “осколочно”-фрагментарный принцип организации текста. Набоков часто окружает своих героев системой зеркальных отражений их личности в “чужих” сознаниях. Герой “Соглядатая” самоустраняется из жизни, продолжая свое бытие во множестве зеркальных отражений, оставленных им в сознании других людей. Но это разрушительная фаза процесса, ибо герой — слабый, “разбросанный человек”
Из двух “половинок” состоит и булгаковская концепция мироздания. Зеркальный код “двоемирия”, организующий сюжетно-композиционную структуру “Мастера и Маргариты”, выведен в заглавие романа: первая буква имени Воланда, W, — не что иное, как зеркальное отражение буквы М, которую Маргарита вышила на шапочке своего возлюбленного. Таким образом, в названии мы имеем три М: М W М. Нижнее М является невидимым мистическим отражением земной реальности в инобытии и одновременно указывает на третьего протагониста романа — Воланда .
Каждое явление земной реальности имеет здесь свой аналог в инобытии, где разоблачаются обманы и всё, обнаруживая свою духовную сущность, предстает в “настоящем обличье”. Так больной и затравленный советской критикой писатель преображается в средневекового мастера, обладающего тайным знанием, а его убогая двухкомнатная квартирка в полуподвале — в прекрасный домик, увитый плющом, где он будет писать перьями, слушать Шуберта и где верные любовники соединятся навсегда. И, наоборот, казавшаяся столь презентабельной клиника Стравинского в реальности сновидческой предстает в своей истинной убогости: “Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, унылая <…> мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, — меж деревьев, — бревенчатое зданьице, не то оно — отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!”
у Булгакова в “Мастере и Маргарите” при переходе из реальности земного бытия в мистическую всегда возникает образ зеркальной поверхности — стеклянной или водной. Так границей двух миров оказывается трюмо, стоявшее в прихожей “нехорошей квартиры” № 50 “дома № 302-бис на Садовой улице”, давно не вытираемое ленивой Груней, и как только посетители, переступив порог, пересекают эту зеркальную границу, начинает происходить невероятное… При переходе за эту зеркальную грань совершаются фантастические метаморфозы видимого — в невидимое и убогого физического — в инобытийное, беспредельно раздвигается пространство обычной трехкомнатной московской квартиры и бесконечно длится полночь великого бала у сатаны.
Перед зеркалом происходит преображение в ведьму Маргариты, а затем, купаясь, она несколько раз пересекает различные водные поверхности (озеро, бассейн и т.д.). Возможно, кстати, что и “пятое измерение” возникает здесь благодаря оптическому эффекту — косоглазию Маргариты-ведьмы. Ведь мистические сцены бала показаны в романе глазами героини… Наконец, “сломанное солнце в стекле”, один из ведущих образных мотивов романа, символизирует смерть, уничтожение земного мира.
У Гессе зеркальная образность реализует себя более завуалированно. Часто его герои находят смерть в водной стихии, как бы перейдя зеркальную грань (Клейн в “Клейн и Вагнер”, Иозеф Кнехт в “Игре в бисер”). Оригинально организован “уход” из жизни героя “Индийского жизнеописания” — за-ключительной новеллы из сочинений Иозефа Кнехта. Увидев в “зеркале родника” — сквозь пролившуюся в течение нескольких мгновений из магической чаши водную струю — все, что ожидает его в земной жизни, если он пойдет по пути удовлетворения своих “юношеских” страстей: блаженство любви, слава и власть, а затем предательство, страдания, падение и полный крах, — и пережив все это в сердце своем, Даса исчезает из мира. “Ничего больше о жизни Дасы нельзя рассказать, остальное происходило по ту сторону картин и историй”. Герой не умер — он перешел за невидимую грань. В сущности, то же произошло и с Гарри Галлером: совершив “ритуальное” самоубийство, из мира физического он просто исчез, а куда — неизвестно. Но, надо полагать, в реальность метафикциональную.
Собственно, настоящее искусство и рождается в точке пересечения двух векторов: синхронного — сотворение “второй реальности”, и диахронного — воспоминание о бывшем. Подлинный художник не только обладает знанием реальным, но наделен и сверхъестественным всеведением Творца, которое и позволяет ему, как булгаковскому мастеру, угадывать, сочиняя “то, чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было”.
Всегда считалось, что в зазеркалье мир предстает человеку странным, искаженным и чужим, а потому пугающим и скорее отталкивающим… А если оно и влечет к себе, то как от века притягивает нас все страшное. Но вот в искусстве ХХ столетия, на мой взгляд, вполне отчетливо просматривается нечто прямо тому противоположное: выход в “метафикциональное” зазеркалье оказывается освобождением творящего сознания художника, только там открывается ему сияющий “мир <…> полный нежности, красок и красоты”, мир добра и милосердия, торжества духа над грубостью и пошлостью. Причина происшедшего радикального изменения, думается, слишком понятна… И навевает мысли печальные.
Полностью статья опубликована в «Вопросах Литературы» 2008, №2
и находится по адресу http://magazines.russ.ru/voplit/2008/2/zl9.html |