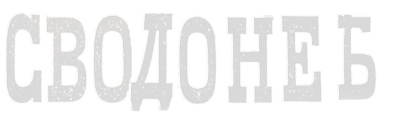…К названию — «Невозможность поэзии» — нужен бы подзаголовок. Что-нибудь незамысловатое, вроде «из дневника» или «из писем к Иксу», хотя всякому ясно, что никакого Икса на свете не было и нет. Хорошо было бы добавить «Для немногих», как у Жуковского, если бы в иных, чем у Жуковского, условиях это не было претенциозно. В самом деле — «для немногих»: я и немногие, я сам, изволите ли видеть, из немногих! «Мы с вами одни понимаем», «мы — избранные, посвященные, особенные», «nous autres, les безумцы», как смеясь сказал однажды Поплавский, редкий, незабываемый умница. Нет, «Для немногих» не годится, и суть-то, пожалуй, ведь и не в том, что написанное обращено к ним. Суть в другом. У Анненского, в одной из его «Книг отражений», есть несколько строк о человеке, который давно стоит в хвосте у кассы, мало-помалу продвигается вперед и уже близок к заветному окошечку. Билеты в кассе выдаются специальные, не для входа в мир, а для выхода из него, то есть такие, которые вернуть Богу, по карамазовскому примеру, невозможно, как бы этого ни хотелось… У Анненского это очень убедительно изображено, с особой его вкрадчиво-ядовитой настойчивостью, и подошло бы к размышлениям о поэзии как нельзя лучше…
* * *
Человек создан по образу и подобию Божьему.
Кому принадлежат эти слова? Имени мы не знаем. Но это, конечно, одна из глубочайших мыслей, которые когда-либо были высказаны, одна из самых благородных и важных, одна из тех, от которых нельзя отречься, пока не стали мы для самих себя предателями…
Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально, и не решит, что если у нас есть руки и ноги, то, значит, должны они быть и у Бога. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем значении…
Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого после того, как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, — а если, случается, и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, — все это и есть «образ и подобие»… Я знаю, конечно, что, едва начав говорить об этом, отваживаюсь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. Да и при чем тут поэзия? — пожалуй, скажут мне…
Поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Иначе действительно, как утверждают иные почтенные и по-своему вовсе не глупые люди, смешно было бы выстукивать размеры и, покусывая карандаш, искать, с чем можно было бы срифмовать, например, нежность, кроме непристойно истрепавшейся, готовой к любым услугам безнадежности. Самая условность и ограниченность поэтических средств обязывает к тому, чтобы лег на целое отблеск безграничности и безусловности.
«Лучшие слова в лучшем порядке». Кольриджевскому определению поэзии у нас повезло, с легкой руки Гумилева, которому формула эта чрезвычайно нравилась…
Но необходимо предостережение: может показаться, что требование «лучших слов» есть нечто вроде совета писать стихи по вячеславу-ивановскому образцу, то есть стихи торжественные, велеречивые, парящие в заоблачных высях. Ни в коем случае! И не думаю, чтобы Пушкин, когда указывал на «служение, алтарь и жертвоприношение» как на сущность творчества, имел что-либо подобное в виду. Нет, вся его поэзия этому противоречит. Однако о жертве упомянул он все-таки не напрасно, и образ этот, понятый как нужно, точен и верен: в поэзии человек возвращает на «алтарь» лучшее, что он получил, приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя — ибо слишком уж бессмысленно! — бросив в церковный ящик пятачок, поставить перед иконой свечу в рубль… Вот ведь в чем дело. По Вячеславу Иванову, только рублевые свечи и допустимы, но он забыл, что у людей в кармане всего только медяки. Да и те наперечет...
Движение, развитие, а тем более «новаторство» в поэзии сопряжено с некоторой долей суетности и с отклонением от всего того, что можно бы назвать поэтической идеей в платоновском смысле. Движение — как это на первый взгляд ни удивительно — рассеивает мысли, разжижает чувство, притом сразу, с первых же шагов, и в конце концов приводит к отступничеству.
Что же поэту делать? Топтаться на месте? Удовольствоваться стилизацией под классиков? Двенадцать гладеньких строк, четырехстопный ямб, любовь и кровь? Нет, это не решение, не выход. Выход найти трудно. В прошлом движение было, иначе нам теперь не на чем было бы и «топтаться»…
* * *
Нет никаких возражений против новаторства, которое ограничилось бы изысканиями формальными, и беда исключительно в том, что в поэзии — и нагляднее всего в русской поэзии, где несомненная столичность соседствует с неискоренимым миргородским захолустьем, — беда только в том, что в поэзии нововведения формальные обычно сочетаются с особой литературной позой, с вызовом, «заскоком». Теоретически это сочетание вовсе не обязательно, но на практике оно обнаруживается сразу, и наша матушка-Россия не упускает тут случая покрасоваться, блеснуть всем, что есть в ней смешного и жалкого (о чем с такой горечью писал в «Дыме» Тургенев)…
Мне наплевать на бронзы многопудье,
Мне наплевать на мраморную слизь…
Это — из Маяковского, из самого прославленного его стихотворения «Во весь голос». Во вступительной статье к лежащему передо мной собранию его сочинений восторженно и подобострастно указывается, что Маяковский «бесстрашно ломал установившиеся каноны», а дальше следует лепет столь знакомый, настолько примелькавшийся, что он даже не удивляет. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и, очнувшись, спросить себя: что это такое, что это такое? Что это за вздор? Куда все идет?
Маяковский был чрезвычайно талантливым человеком и мог бы стать очень большим поэтом. Не думаю, чтобы после Некрасова у кого-либо в русских стихах явственнее звучали ноты трагические. В голосе Маяковского была медь, был закал, и хотя ранние его фиоритуры не совсем обходились без Несчастливцева и ближе были к футуристической мелодраме, нежели к футуристическому Эсхилу, в дальнейшем, казалось, он должен был от сгущения красок освободиться. «Облако в штанах» было редким поэтическим обещанием. Но самое название поэмы, то есть характер этого названия, внутренний склад его мог вызвать опасения, и опасения оказались оправданы.
Оставим, забудем «кроме как в Моссельпроме», поскольку сам Маяковский эти упражнения поэзией не считал. Но и то, что он считал поэзией, удручает: развязность, зычное похохатывание, отсутствие «словечка в простоте», хотя бы только одного словечка, непоколебимая уверенность, что в этом-то и сказывается прогресс искусства и ломка канонов, что эта ломка нужна, благотворна, что с ней поэзия триумфально идет вперед… Руки опускаются, а если пришлось бы возражать, убеждать, спорить, начать надо было бы с самых азов: дважды два четыре.
Маяковский был прав в основном своем убеждении, что сто лет после смерти Пушкина нельзя писать стихи так же, как писал Пушкин. Но вместе с формальным выводом из положения бесспорного он наспех, кое-как, сделал вывод эмоциональный, учитывая мгновенный глупый отклик, шум и успех, и не то что погубил себя, а дал в себе вырасти какому-то поэтико-демагогическому чудищу. Маяковский довел русскую поэзию до обрыва, почти до пропасти, хотя неизменно оставался блестяще находчив в словосочетаниях и всяких словесных ухищрениях. Отталкивают у него не средства, а цели. Почему бронзы «многопудье»? О, это «многопудье»! Отталкивает ведь не самый неологизм, а величаво-хамски-небрежная эмоциональная его окраска, в сущности которой окончательно рассеивает сомнения дальнейшая «мраморная слизь». Эх, что вы там, вот мы, душа нараспашку, парень-рубаха, знай наших!..
* * *
С Мариной Цветаевой дело проще. Довольно часто мне приходится слышать упреки, что я ее недооцениваю и не понимаю. Недооценка возможна. Но не понимать в Цветаевой нечего.
Она, конечно, была настоящим поэтом, и, конечно, у нее попадаются отдельные блестящие строфы, мелодические и меланхолические, женственные, как ни у кого Задумчивость, полусонно-певучие интонации, тихий, сомнамбулический ход некоторых ее стихов к Блоку или ранних стихотворений о Москве неотразимы Но творческие претензии Цветаевой мало-помалу оказались в разладе с ее силами: утверждаю это как очевидную истину, хотя и знаю, что остаюсь в одиночестве. Юрий Иваск, например, один из ее верных, стойких поклонников, вспомнил даже Державина, говоря о ней: высокий поэтический склад, высокий душевный строй, пафос, роскошь, пышность. Это — портрет, это — характеристика, но это не довод, и расходимся мы лишь в догадках, на чтении основанных, было ли у Цветаевой достаточно «горючего» для непрерывного пламенения, или пламенела она большей частью призрачно, механически, по инерции, как во многом ей родственный Бальмонт. Об этом можно спорить. Но о том, что в ее скороговорке, в ее причитаниях и восклицаниях, в ее ритмической судороге нет творческой новизны — то есть данных для развития, — по-моему, и спорить нельзя Цветаева принадлежит к тем, с кем кончается эпоха, и только дух противоречия, которым она была одержима, дух творческого «наперекор» помешал ей в этом сознаться. Даже самой себе.
Гораздо значительнее — формально и внутренне — Пастернак, хотя у него и нет цветаевского «шарма». Но ищет ли он его, хочет ли, склонен ли был им прельститься? Едва ли, — как Пушкин едва ли прельстился бы тем, что иногда подкупает у Фета.
Пастернак — вместе с Хлебниковым — единственный наш поэт «новаторского» типа, который свои лабораторные опыты не считает нужным соединять с противопоставлением себя всему остальному человечеству, с самоупоением и гениальничаньем. Одно это должно бы внушить к нему доверие, не будь даже в его поэтическом облике других черт, редких и замечательных. Однако самый опыт его не только не колеблет сомнений в дальнейшей «возможности поэзии», но неожиданно подводит под них новые основания, поддерживает их своим примером, всей своей импровизационной произвольностью.
У Пастернака слово сошло с ума, впервые в русской поэзии: слово перестало быть единицей логической, связанной в движениях логическим смыслом и не поддающейся обращению, в котором смысловые сцепления понятий были бы заменены какими-либо другими. Пастернак делает со словом все, что ему вздумается, и заставляет его изменять значение там, где ему это угодно… У Пастернака метафоры нередко бывают вполне безумны, и отчасти это позволяет ему взметать словесные вихри, в которых он — царь и бог, никем, ничем не ограниченный. Вихри, что и говорить, вдохновенны. Но вдохновение — личная черта, личный дар поэта, который он никому передать не может, а передавая метод и стиль, он внушает отказ от прозы, боязнь ее вместо ее преодоления. Именно в этом-то ведь корень всего, всех надежд, мечтаний, всех «невозможностей», всех творческих тупиков и драм: проза должна быть в поэзии претворена, должна в нее войти и в ней раствориться. Поэзия должна возникнуть над прозой, после нее, а не в сторонке, как малодушное бегство от встречи, без согласия на риск. Линия Пастернака есть линия наименьшего сопротивления, при всей внешней, чисто синтаксической или стилистической его сложности: формальный замысел его поэзии таит в себе предчувствие «невозможности» (хотелось бы сказать: предзнание), но вместо того, чтобы разбить себе голову о стену, — или хотя бы рискнуть этим! — Пастернак ищет обходных тропиночек, да еще со скамейками для отдыха… Игра у Пастернака неизменно чувствуется — в противоположность творчеству наименее склонного к ней из новых русских поэтов, Блока. Но странно: привкус пастернаковской поэзии при этом горек. Освобождение не привело никуда, привело в «никуда»: Пастернак остался в пустоте и видит вокруг себя только миражи…
В попытках доискаться, в чем же самая суть расхождения, является мысль: не главное ли в поэзии — ощущение суеты сует? Голод не оттого ли, что суета сует не питательна? Читаешь стихи, видишь, как они крепко и ладно сделаны, — и недоумеваешь: зачем они сделаны, зачем?..
Что же делать? — спрашиваешь себя в сотый раз. Что делать во имя «образа и подобия»? Ради «лучших слов», какие надо в себе найти? Попытка вытравить все украшения, всякого рода побрякушки, не только грошовые, но и отличной выделки, высокой пробы, мало-помалу приводит к белой странице…
Подстерегает опасность и хуже, чем пустая страница: естественное, даже в каком-то смысле здоровое стремление избавиться от тирании «невозможности», однако без согласия вступить на путь беспечно-развлекательный, в духе «лимонада», о котором говорил Державин, и говорил, конечно, в насмешку, — стремление это может привести к сочинению стихов, ничем не отличающихся от тех, которые писали майковские эпигоны, вялых, бледных, даже не мертвых, а как бы еще не родившихся, никаких…
* * *
В русском прошлом было много хорошего, было и много слабого Но, обрывая эти свои заметки — в которых столько осталось недоговоренного! — в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания не могу удержаться, чтобы именно из прошлого не привести короткое стихотворение — шесть строк Баратынского:
Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: «удивительно», «изумительно» Ничего «изумительного» в этих стихах нет. Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение «образа и подобия»…
Или иначе — будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руках, обратиться к поэзии с мольбой: «Да приидет царствие твое!».
Но не придет оно никогда.
Полный текст статьи опубликован:
http://lib.rus.ec/b/205402/read#t2
|