
|
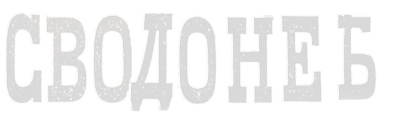
|

|
| Вернуться к списку: |
| Автору: |
| Сейчас по Гринвичу: |
| На сайте: |
| Недавно посетили: |
Сейчас
в Чухломе и Кологриве:
В Яунпиебалге и Бобруйске:
В Акюрейри и Уагадугу:
|
Произведение: Школа дураков Иннокентий Анненский. Что такое поэзия? Этого я не знаю. Но если бы я и знал, что такое поэзия (ты простишь мне, неясная тень, этот плагиат!), то не сумел бы выразить своего знания или, наконец, даже подобрав и сложив подходящие слова, все равно никем бы не был понят. Вообще есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять. Разве есть покрой одежды, достойный Милосской богини? Из бесчисленных определений поэзии, которые я когда-то находил в книгах и придумывал сам (ничего не может быть проще и бесполезней этого занятия), в настоящую минуту мне вспоминаются два. Кажется, в "Солнце мертвых" я читал чьи-то прекрасные слова, что последним из поэтов был Орфей, а один очень ученый гибрид сказал, что "поэзия есть пережиток мифологии". Этот несчастный уже умер... Да и разве можно было жить с таким сознанием? Два уцелевших в моей памяти определения, несмотря на их разноречивость, построены, в сущности, на одном и том же постулате "золотого века в прошлом". Эстетик считал, что этот век отмечен творчеством богов, а для мифолога в золотой век люди сами творили богов. Я бы не назвал этого различия особенно интересным, но эстетически перед нами: с одной стороны - сумеречная красота Данте, с другой - высокие фабричные трубы и туман, насыщенный копотью. Кажется, нет предмета в мире, о котором бы сказано было с такой претенциозностью и столько банальных гипербол, как о поэзии. Один перечень метафор, которыми люди думали подойти к этому явлению, столь для них близкому и столь загадочному, можно бы было принять за документ человеческого безумия. Идеальный поэт поочередно, если не одновременно, являлся и пророком (я уже не говорю о богах), и кузнецом, и гладиатором, и Буддой, и пахарем, и демоном, и еще кем-то, помимо множества стихийных и вещественных уподоблений. Целые века поэт только и делал, что пировал и непременно в розовом венке, зато иногда его ставили и на поклоны, притом чуть ли не в веригах. По капризу своих собратьев, он то бессменно бренчал на лире, то непрестанно истекал кровью, вынося при этом такие пытки, которые не снились, может быть, даже директору музея восковых фигур. Этот пасынок человечества вместе с Жераром де Нерваль отрастил себе было волосы Меровинга и, закинув за левое плечо синий бархатный плащ, находил о чем по целым часам беседовать с луною, немного позже его видели в фойе Французской комедии, и на нем был красный жилет, потом он образумился, говорят, даже остригся, надел гуттаперчевую куртку (бедный, как он страдал от ее запаха!) и стал тачать сапоги в общественной мастерской, в промежутках позируя для Курбе и штудируя книгу Прудона об искусстве. Но из этого ничего не вышло, и беднягу заперли-таки в сумасшедший дом. Кто-кто не указывал поэту целей и не рядил его в собственные обноски? Коллекция идеальных поэтов все растет, и я нисколько не удивлюсь, если представители различных видов спорта, демонизма, и даже профессий (не исключая и воровской) обогатят ее когда-нибудь в свою очередь. Хотя я и написал в заголовке: Что такое поэзия? - но вовсе не намерен ни множить, ни разбирать определений этого искусства. К тому же мне. решительно нечему учить, так как в сфере поэтики у меня есть только наблюдения, желания или сомнения. Конечно, мысль, этот прилежный чертежник, вечно строит какие-нибудь схемы, но, к счастью, она тут же и стирает их без особого сожаления. Прежде всего - о метафоре "поэтический образ". Если не говорить о чисто психических актах, то эту метафору надо прилагать к поэтическим явлениям с большими оговорками. Хотя Гораций и сказал Ut pictura poesis {Поэзия как живопись (лат.).}, но образ есть неотъемлемая и неизбежная (кажется) принадлежность живописи; он предполагает нечто конкретное и ограниченное, обрезанное. В известной мере всякий образ безусловен, самостоятелен и имеет самостоятельную ценность. Откроем наудачу Пушкина: Вокруг лилейного чела, Как туча, локоны чернеют, Звездой горят ее глаза, Ее уста, как роза, рдеют. Здесь целый букет, целый мелодический дождь символов, но причем же тут живопись? Вообще поэзии приходится говорить словами, т. е. символами психических актов, а между теми и другими может быть установлено лишь весьма приблизительное и притом чисто условное отношение. Откуда же возьмется в поэзии, как языке по преимуществу, живописная определенность? Сами по себе создания поэзии не только не соизмеримы с так называемым реальным миром, но даже с логическими, моральными и эстетическими отношениями в мире идеальном. По-моему, вся их сила, ценность и красота лежит вне их, она заключается в поэтическом гипнозе. Причем гипноз этот, в отличие от медицинского, оставляет свободной мысль человека и даже усиливает в ней ее творческий момент. Поэзия приятна нам тем, что заставляет нас тоже быть немножко поэтами и тем разнообразить наше существование. Музыка стиха, или прозы, или той новой формы творчества, которая в наши дни (Метерлинк, Клодель) рождается от таинственного союза стиха с прозой, не идет далее аккомпанемента к полету тех мистически окрашенных и тающих облаков, которые проносятся в нашей душе под наплывом поэтических звукосочетаний. В этих облаках есть, пожалуй, и слезы наших воспоминаний, и лучи наших грез, иногда в них мелькают даже силуэты милых нам лиц, но было бы непростительной грубостью принимать эти мистические испарения за сознательные или даже ясные отображения тех явлений, которые носят с ними одинаковые имена… Удивление перед героическими силуэтами Одиссеев и Ахиллов еще связывает нас кое-как с древними почитателями Гомера, но было бы просто смешно сводить живую поэзию с ее блеском и ароматом на академические линии во вкусе Корнелиуса и Овербека. Итак, значит, символы, т. е. истинная поэзия Гомера, погибли? О нет, это значит только, что мы читаем в старых строчках нового Гомера, и "нового", может быть, в смысле разновидности "вечного". Когда люди перестали различать за невнятным шорохом гекзаметра плеск воды об ахейские весла, дыхание гребцов, злобу настигающего и трепет настигаемого, они стали искать у Гомера новых символов, вкладывать в его произведения новое психическое содержание. "Одиссея" в переводе Фосса тоже прекрасна, только античность точно преломилась у немецкого переводчика в призме немецкой пасторали. Среди гекзаметров, говорящих о семье Алкиноя, нет-нет да и послышатся гулкие звонки темно-красных коров с черными глазами, пахнет парным молоком, мелькнут зеленые шнуровки, большие красные руки, честный Ганс на его деревянных подошвах; вот медленно раскуривается чья-то трубка, а вот и пастор в черной шляпе и с палкой, сгорбившись, проходит около церковной ограды. Но тревожной душе человека XX столетия добродетель пасторали едва ли ближе бранной славы эпоса, и символы Гомера возбуждают в нас уже совсем другие эстетические эмоции. Ахилл дразнит нашу фантазию своей таинственной и трагической красотой. Волшебница Кирка рисуется нам с кошачьей спиной, как у Берн-Джонса , а на Елену мы уже не можем смотреть иначе, как сквозь призму Гете или Леконта де Лиля. Ни одно великое произведение поэзии не остается досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются как бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят Гамлета… Создания поэзии проектируются в бесконечном. Души проникают в них отовсюду, причудливо пролагая по этим облачным дворцам вечно новые галереи, и они могут блуждать там веками, встречаясь только случайно. Но вернемся к первому из определений поэзии, о которых я говорил выше. Последним из поэтов был Орфей. Отчего же был? Разве черное весло Орфея красивее в золотистом тумане утра, чем в алых сумерках? Золотой век поэзии в прошлом - это постулат, но даже не Евклидов. Я вовсе не думаю вас уверять, что Ренье более поэт, чем Гюго, но зачем же закрывать глаза на эволюцию, которая и в поэзии совершается столь же неизменным образом, как во всех других областях человеческого духа? Наследие поэтического стиля кажется нам все более и более громоздким. Хочется уйти куда-нибудь от этих банальных метафор, наивных гипербол и отделаться, наконец, от этих метких общих мест. Грубый факт, все, что не успело стать свободной мыслью, частью моего я, мало-помалу теряет власть над поэзией. Факт диккенсовского героя напрасно надевал маски то археологии, то медицины, то этнографии, то психологии, то истории - в нем не становилось от этого больше силы внушения. Куда, в самом деле, девалась пресловутая фотография действительности и где все эти протоколы, собственные имена, подобранные из газетных хроник и т. д.? Красота свободной человеческой мысли в ее торжестве над словом, чуткая боязнь грубого плана банальности, бесстрашие анализа, мистическая музыка недосказанного и фиксирование мимолетного - вот арсенал новой поэзии. С каждым днем в искусстве слова все тоньше и все беспощадно-правдивее раскрывается индивидуальность с ее капризными контурами, болезненными возвратами, с ее тайной и трагическим сознанием нашего безнадежного одиночества и эфемерности. Но целая бездна отделяет индивидуализм новой поэзии от лиризма Байрона и романтизм от эготизма. С одной стороны - я, как герой на скале, как Манфред, демон; я политического борца; а другой я, т. е. каждый, я ученого, я, как луч в макрокосме; я Гюи де Мопассана и человеческое я, которое не ищет одиночества, а напротив, боится его; я, вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте паутины; не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою. Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для ощущений, т. е. реального субстрата жизни и для настроений, т. е. той формы душевной жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию. Стихи и проза вступают в таинственный союз. Символика звуков и музыка фразы занимают не одних техников поэзии. Синкретизм ощущений, проектируясь в поэзии затейливыми арабесками, создает для нее проблему не менее заманчивую, чем для науки, и, может быть, более назревшую… Растет словарь. Слова получают новые оттенки, и в этом отношения погоня за новым и необычным часто приносит добрые плоды. Создаются новые слова и уже не сложением, а взаимопроникновением старых. Наконец, строгая богиня красоты уже не боится наклонять свой розовый факел над уродством и разложением. Мир, освещаемый правдивым и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, потому что он - я. Я не пишу панегирика поэзии, которая делается в наши дни, и знаю, что ей недостает многого… Она - дитя смерти и отчаяния, потому что хотя Полифем уже давно слеп, но его вкусы не изменились, а у его эфемерных гостей болят зубы от одной мысли о том камне, которым он задвигается на ночь… Полный текст статьи размещен здесь: http://az.lib.ru/a/annenskij_i_f/text_0350.shtml Отзыв:
Отзывы на этот отзыв: |
| Свод Законов |
| Канцелярская Крыса |
| Книга Жалоб |
| Миллион значений |
| Пан Оптикум |
| Помощь |
| рецензии |
| Школа дураков |
Все права на опубликованные произведения принадлежат их авторам. Копирование, полное или частичное воспроизведение текстов без разрешения авторов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом об авторском праве. По всем вопросам, касающимся использования размещенных на сайте произведений просьба обращаться непосредственно к авторам, администрация сайта не уполномочена вести какие-либо переговоры от их имени.