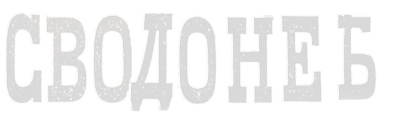Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе
все, даже мускулы. Поэзия - мое священнодействие.
Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и
торжественное шествие по дням года - тоже поступки, только другого рода.
Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе
почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него
надеяться.
Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего
не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в
рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в
обряде <…>
Я пекусь о человеке не с помощью обессмыслившихся припасов и не при
помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и капитан равны у меня
перед царством. Бездарный ваятель трудится наравне с даровитым ради
прекрасного шедевра гения, плохие работы - ступеньки лестницы, ведущей к
хорошим. <…>
Потому мне и кажется справедливым не делить сокровище.
Есть только одна справедливость: спасать то, чем ты жив. Справедливость
к твоим божествам. Но не к отдельным людям. Бог в тебе, и я спасу тебя, если
твое спасение послужит Его величию. Но я не могу спасти тебя, пожертвовав
ради тебя божеством. Ибо ты и есть твое божество. <…>
Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя, жаждущего, телесно
или духовно, даже если ты умираешь.
Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они
создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая ее,
приобщить тебя жизни, навязывая смерть, это неправда, словесное
противопоставление запутывает суть, тщась ее выразить. (Приходит время
великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть
"за" или "против")<…>
Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный
мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь,
указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все
измерить, все перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы,
которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал
меня там, где я дал слабину. Я рад.
Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь
на тебя, - ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков, - они
обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до
формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их - твое дело.
Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем
корабле, о звездной ночи и волшебном царстве ароматов, рожденном дальним
островом. "Наступает утро, - говорю я тебе, - и ты, пусть ничего вокруг на
взгляд не изменилось, попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет не видимый
еще остров, похожий на корзинку, полную пряностей". И ты видишь, что твои
матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ
колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию
нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже
счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы... И на море, в зависимости
от ветра, ты ловишь благоуханье любви, отдыха или смерти".
Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури,
нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я
ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые
я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть
совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для
меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть
даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь
меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в молчании моей любви,
пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения?
Преображенный священнодействием поставленных парусов, звездной книги и палубы,
которую необходимо драить, ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах,
что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь.
А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу.
Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнуть,
уничтожить меня. Я - питающая среда, а не вывод умозаключения. Разве
возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен
был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин...
Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о
море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений?<…>
Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда
глубже. Слова для истины - дурная одежда, любое из слов можно опровергнуть.
Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я
ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности. ловушки я сужу по
добыче. Не логика связывает дробный мир воедино - Бог, которому равно
служит каждая частичка. Слова мои неловки на первый взгляд, несвязны, но
внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. <…>
Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я
могу войти, пятясь, в зал приемов, где ты дожидаешься меня, могу
воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я
поступлю, как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе вот
так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и
любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я
и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом,
изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в
безъязыком мире, еще способной извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый
гвоздями сапог моего жандарма.
Нет на свете строптивцев. Нет одиночек. Нет человека, который бы
всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее
ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов,
лунного света и ветерка.
"Я - тень, - говорит тебе твоя тень, - я обхожусь без света". Но она
живет благодаря ему. <…>
Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя клептомания, и
ты суешь в карман золотые безделушки, что попадаются тебе на глаза, но ты
еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки,
спрячу их.
Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее
прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на
праздник. Редкостные камни овевают ее ореолом таинственной значимости. Но ты
еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам
о них перед тобой умолчу.
Возможно, ты просто мой друг. Я приму тебя просто из любви к тебе,
такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь
того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден,
накормлю.
Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот
поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе
ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить
по тебе.
Но и ты должен так же принять меня. Мне нечего делать с другом, который
не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с
помощью хилого ветра слов. Я - гора. Гору можно созерцать, всматриваясь.
Тачка вряд ли тебе в помощь.
Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне
заговорить? Слова бывают недостойными, неблаговидными. <…>
Но я опасаюсь патетически глаголящих воинов. <…>
Я не доверяю гусенице, влюбленной в крылья. Она не найдет времени запеленаться
в кокон. Я глух к ветру слов, и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то,
что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг – это точка
зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он - особое
царство и неистощимый запас. Он может молчать и переполнять меня своим молчанием.
Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего
друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит.
А слова все дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык...
Полный текст романа опубликован здесь:
http://lib.ru/EKZUPERY/citadel.txt
|