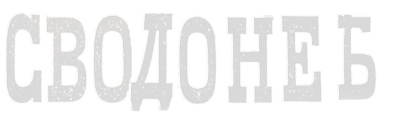|
|
Произведение:
Школа дураков
Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным.
Llllllll
<…>При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами,- трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного (жест неопределенности: "да так... так как-то всё..."). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин, и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?
Llllllll
...Больше ничего
Llllllll
Не выжмешь из рассказа моего,
Llllllll
- резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу. <…>
//////
Легкость - вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о "чрезвычайной легкости и плавности" его стихов: "кажется, что они не стоили никакой работы", "кажется, что они выливались у него сами собою" ("Невский Зритель", 1820, № 7; "Сын Отечества", 1820, ч. 64, № 36) <…>
Bbbbbbb
Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустяка привлекал его с малолетства. Научая расхлябанности и мгновенному решению темы, он начисто исключал подозрение в серьезных намерениях, в прилежании и постоянстве. В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества.
Bbbbbbb
Не думай, цензор мой угрюмый,
Bbbbbbb
Что я беснуюсь по ночам,
Bbbbbbb
Объятый стихотворной думой,
Bbbbbbb
Что ленью жертвую стихам...
Llllllll
Все-таки - думают. Позднейшие биографы с вежливой улыбочкой полицейских авгуров, привыкших смотреть сквозь пальцы на проказы большого начальства, разъясняют читателям, что Пушкин, разумеется, не был таким бездельником, каким его почему-то считают. Нашлись доносители, подглядевшие в скважину, как Пушкин подолгу пыхтит над черновиками. <…>
Lllllllllll
Естественно, эта ветреность не могла обойтись без женщин. Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвящённые прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования. Молодой поэт в амплуа ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле….
Kkkkkkkk
На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой - в первую очередь школой верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в "Онегине" и другими номерами, о которых не без бахвальства сказано:
Kkkkkkkk
Порой я стих повертываю круто,
Kkkkkkkk
Всё ж видно, не впервой я им верчу.
Kkkkkkkk
Уменье вертеть стихом приобреталось в коллизиях, требующих маневренности необыкновенной, подобных той, в какую, к примеру, попал некогда Дон-Жуан, взявшись ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками. В таком положении хочешь - не хочешь, а приходится поворачиваться.
Kkkkkkkk
Или - Пушкин бросает фразу, решительность которой вас озадачивает: "Отечество почти я ненавидел" (?!). Не пугайтесь: следует - ап! - и честь Отечества восстановлена:
Kkkkkkkk
Отечество почти я ненавидел
Kkkkkkkk
Но я вчера Голицыну увидел
Kkkkkkkk
И примирен с отечеством моим.
Kkkkkkkk
И маэстро, улыбаясь, раскланивается.
Lllllllllll
Но что это? Егозливые прыжки и ужимки, в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения?.. Словно материя одной страсти налету преобразовалась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом воплотиться в прежнем обличье. Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа (не уставая попутно производить и докармливать гривуазных тварей низшей породы). Небесное созданье, воскресив для певца "и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь", способно обернуться распутницей, чьи щедроты обнародованы с обычной шаловливой болтливостью, но и та пусть не теряет надежды вновь при удобном случае пройти по курсу мадонны.
Llllllllllll
Не потому ли на Пушкина никто не в обиде, а дамы охотно ему прощают нескромные намеки на их репутацию: они - лестны, они - молитвенны...
Kkkkkkkk
Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным, чтоб не сказать - надзвездным, свечением (тем - какое больше походит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на матерьяльную плоть). Не плоть - эфирное тело плоти, ея Психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все эти румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелиц и закружившиеся в независимом вальсе, "как мимолетное виденье, как гений чистой красоты".
Kkkkkkk
Пушкинская влюбчивость - именно в силу широты и воспламеняемости этого чувства - принимает размеры жизни, отданной одному занятию, практикуемому круглосуточно, в виде вечного вращения посреди женских прелестей. Но многочисленность собрания и любвеобилие героя не позволяют ему вполне сосредоточиться на объекте и пойти дальше флирта, которым по существу исчерпываются его отношения с волшебницами. Готовность волочиться за каждым шлейфом сообщает поползновениям повесы черты бескорыстия, самозабвения, отрешенности от личных нужд, исправляемых между делом, на бегу, в ежеминутном отключении от цели и зевании по сторонам. Как будто Пушкин задался мыслью всех ублажить и уважить, не обойдя своими хлопотами ни одной мимолетной красотки, и у него глаза разбегаются, и рук не хватает, и нет ни времени, ни денег позаботиться о себе. В созерцании стольких ракурсов, в плену впечатлений, кружащих голову, повергающих в прострацию, он из любовников попадает в любители, в эрудиты амурной науки, лучшие блюда которой, как водится, достаются другим. <…>
Kkkkkkkk
Эротика Пушкина, коли придет ей такая охота, способна удариться в путешествия, пуститься в историю, заняться политикой. Его юношеский радикализм в немалой степени ей обязан своими нежными очертаньями, воспринявшими вольнодумство как умственную разновидность ветрености. Новейшие идеи века под его расторопным пером нередко принимали форму безотчетного волнения крови, какое испытывают только влюбленные. "Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свиданья". Вот эквивалент, предложенный Пушкиным. Поэзия, любовь и свобода объединялись в его голове в некое общее - привольное, легкокрылое состояние духа, выступавшее под оболочкой разных слов и настроений, означающих примерно одно и то же одушевление. Главное было не в словах, а в их наклонах и пируэтах.
Lllllllllllll
Понятно, в этом триумвирате первенство принадлежало поэзии. Но если хоть в сотой доле верна сомнительная теория, что художественная одаренность питается излучением эроса, то Пушкин тому прямая и кратчайшая иллюстрация. К предмету своих изображений он подскакивал нетерпеливым вздыхателем, нашептывая затронувшей его струны фигуре: "Тобой, одной тобой..." А он умел уговаривать. "Еllе mе trоuble соmme unе раssion",- писал он о Марине Мнишек.- "Она меня волнует, как страсть".
Kkkkkkkkk
Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская Муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной. Та, как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободною времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя. <…>
Kkkkk
Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся - всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.
Kkkkkk
В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого.
Kkkkkk
...Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Kkkkkk
Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале
Kkkkkk
И, камень приподняв за медное кольцо,
Kkkkkk
Сошли мы вниз - и я узрел себя в подвале.
Kkkkkk
Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение.
Kkkkkk
Kkkkkkk
"Нет истины, где нет любви",- это правило в устах Пушкина помимо прочего означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, играет на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев. <…>
Kkkkk
Любя всех, он никого не любил, и "никого" давало свободу кивать налево и направо - что ни кивок, то клятва в верности, упоительное свидание. Пружина этих обращений закручена им в Дон Гуане, вкладывающем всего себя (много ль надо, коли нечего вкладывать!) в каждую новую страсть - с готовностью перерождаться по подобию соблазняемого лица, так что в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен, в соответствии с происшедшей в нем разительной переменой. Он тем исправнее и правдивее поглощает чужую душу, что ему не хватает своей начинки, что для него уподобления суть образ жизни и пропитания. Вот на наших глазах развратник расцветает тюльпаном невинности - это он высосал кровь добродетельной Доны Анны, напился, пропитался ею и, вдохновившись, говорит:
Kkkkk
...Так, разврата
Kkkkk
Я долго был покорный ученик,
Kkkkk
Но с той поры, как вас увидел я,
Kkkkk
Мне кажется, я весь переродился.
Kkkkk
Вас полюбя, люблю я добродетель
Kkkkk
И в первый раз смиренно перед ней
Kkkkk
Дрожащие колена преклоняю.
Kkkkk
Kkkkk
Верьте, верьте - на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина в пушкинское творение. Но не очень-то увлекайтесь: перед нами вурдалак.
Kkkkkkk
В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь, наливаясь, твердит мгновению: "ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!" - пока не отвалится. <…>
Fffffffff
Пир во время чумы! - так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением поэзией. Ни одно произведение Пушкина не источает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная сплошь из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в "Пире" экстатичен, вакханалия - вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, ознаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию. <…>
Ggggggg
Судя по Пушкину, искусство лепится к жизни смертью, грехом, беззаконьем. Оно само кругом беззаконье, спровоцированное пустотой мертвого дома, ходячего трупа. "Погибшее, но милое созданье"...
;;;;;;;;;;;;;;;
В утешенье же артисту, осужденному и погибшему, сошлемся на Михаила Пселла, средневекового схоласта: "Блестящие речи смывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу"<…>
Kkkkkkkk
В воспоминании - в узнавании мира сквозь его удаленный в былое и мелькающий в памяти образ, вдруг проснувшийся, возрожденный,- мания и магия Пушкина. Это и есть тот самый, заветный "магический кристалл". Его лучшие стихи о любви не любви в собственном смысле посвящены, а воспоминаниям по этому поводу. "Я помню чудное мгновенье". В том и тайна знаменитого текста, что он уводит в глубь души, замутненной на поверхности ропотом житейских волнений, и вырывает из забытья брызжущее, потрясающее нас как откровение "ты!" Мы испытываем вслед за поэтом радость свидания с нашим воскресшим и узнанным через века и океаны лицом. Подобно Пославшему его, он говорит "виждь" и "восстань" и творит поэтический образ как мистерию явления отошедшей, захламленной, потерявшейся во времени вещи (любви, женщины, природы - кого и чего угодно), с ног до головы восстановленной наново, начисто. Его ожившие в искусстве создания уже не существуют в действительности. Там их не встретишь: они прошли. Зато теперь одним боком они уже покоятся в вечности. <…>
Kkkkkkkk
Вскоре, однако, ему и этого показалось мало: "Я не принадлежу к нашим писателям 18 века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть не для улыбок прекрасного пола" (письмо к П. А. Вяземскому, 8 марта 1824 г.).
Kkkkkkkk
На наших писателей прошлого века здесь возведен поклеп. Те когда и писали для улыбок прекрасного пола, то в основном - коронованного. Литературу тогда ведь больше курировали императрицы. Другое дело Пушкин, сколотивший на женщинах состояние, нашедший у них и стол и дом. Давно ли было: "для вас одних"? Давно ли он распинался: "Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст"? И вот все улыбки по боку (верь ему после этого). "Для себя и для денег". Ишь скряга.
Lllllllllllll
Деньги ему действительно были нужны позарез. Но, помимо материальной поддержки, они, как и женщины, выполняли роль укрытия, благонамеренной ширмы. В одном полуофициальном письме Пушкин именует свои писательские занятия "отраслью честной промышленности", обеспечивающей ему приличный доход. Промышленность - звучала солидно, пользовалась льготами, разумела свободное, частное предпринимательство. Под этой маркой он и развернулся, предпочтя прослыть коммерсантом, нежели кому-то служить. Он во всю торговал рукописями, лишь бы не продавать вдохновение. <…>
Kkkkkkkk
Мы видим, как, подменяя одни мотивы другими (служение обществу женщинами, женщин - деньгами, высокие заботы - забавой, забаву предпринимательством), Пушкин постепенно отказывается от всех без исключения, мыслимых и придаваемых обычно искусству, заданий и пролагает путь к такому - до конца отрицательному - пониманию поэзии, согласно которому та "по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме себя самой". Он городит огород и организует промышленность, с тем чтобы весь его выработанный и накопленный капитал пустить в трубу. Без цели. Просто так. Потому что этого хочет высшее свойство поэзии.
Kkkkkkkkk
У чистого искусства есть отдаленное сходство с религией, которой оно, в широкой перспективе, наследует, заполняя создавшийся вакуум новым, эстетическим культом, выдвинувшим художника на место подвижника, вдохновением заместив откровение. С упадком традиционных уставов, оно оказывается едва ли не единственной пристанью для отрешенного от мирской суеты, самоуглубленного созерцания, которое еще помнит о древнем родстве с молитвой и природой, с прорицанием и сновидением и пытается что-то лепетать о небе, о чуде. За неимением иных алтарей искусство становится храмом для одиноких, духовно одаренных натур, собирающих вокруг щедрую и благодарную паству. <…>
Kkkkkkkkkk
Стремясь подобрать дефиниции эмоциональному состоянию, ведущему к научным открытиям (имеющим в данном случае больше сходства с искусством, как и состояние это - с поэтическим вдохновением), Альберт Эйнштейн пояснял, что оно напоминает религиозный экстаз или влюбленность: "непрерывная активность возникает не преднамеренно и не по программе, а в силу естественной необходимости" (письмо к Максу Планку, 1918 г.). Такое подтверждение пушкинских (да и многих других чистых поэтов) мыслей, посвященных той же загадке, слышать из уст ученого вдвойне приятно.
Kkkkkkkkkkk
Не этому ли колебанию между религией и эротикой (а может быть, их сочетаниям в разных дозах и формах) мы обязаны сиянием, которое как бы исходит от лица художника и его творений, специфическим ароматом, душистостью (к чему так чувствительны, по пчелиному, женщины)? Состояние непроизвольной активности, вечной, беспредметной влюбленности, счастливой полноты совмещается у поэтов с монашеской жаждой покоя, внутренней сосредоточенности, с изнурительным, ничему не внимающим, кроме своего счастья, постом. Сравните: конфликт с миром, разрыв с моралью, с обществом - и почти святость, благость, лежащая на людях искусства, их странная влиятельность, общественный авторитет. Пушкин! - ведь это едва не государственное предписание, краеугольный камень всечеловеческой семьи и порядка,- это Пушкин-то, сказавший: "Подите прочь - какое дело поэту мирному до вас!"? А мы не обижаемся, нам всем до него дело, мы признаем его чару над нами и право судить обо всем со своей колокольни.
Kkkkkk
Чистое искусство - не доктрина, придуманная Пушкиным для облегчения жизни, не сумма взглядов, не плод многолетних исканий, но рождающаяся в груди непреднамеренно и бесцельно, как любовь, как религиозное чувство, не поддающаяся контролю и принуждению - сила. Ее он не вывел умом, но заметил в опыте, который и преподносится им как не зависящее ни от кого, даже от воли автора, свободное излияние. Чистое искусство вытекает из слова как признак его текучести. Дух веет, где хощет.
Kkkkkk
И забываю мир - и в сладкой тишине
Kkkkkk
Я сладко усыплен моим воображеньем,
Kkkkkk
И пробуждается поэзия во мне:
Kkkkkk
Душа стесняется лирическим волненьем,
Kkkkkk
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Kkkkkk
Излиться наконец свободным проявленьем...
Kkkkkk
Kkkkkk
Полный текст Андрея Синявского можно прочитать здесь: http://lib.rus.ec/b/55591/read
Kkkkkk
Kkkkkk
В ответ на отзыв:
Текст удален
| | По поводу «Прогулок с Пушкиным» Терца и некоторой прямолинейности его истолкований |
| По поводу «Прогулок с Пушкиным» Терца и некоторой прямолинейности его истолкований
(Ляля Ципина – «Комментарий к отрывкам из текста А. Терца «Прогулки с Пушкиным» - http://www.svodoneb.ru/index.php?pagename=edit_texts&action=view&id=22964#mainanchor)
Вот ведь как забавна наша интеллигенция – при том, что она «до слез» серьезна, до «полного втемяшивания» поучительна, но не замечает, как ей «идет», как выражает ее «причинную суть» классическое определение: «Эй, ты там – в очках и шляпе!». Невозможно, наверное, найти «слово» ёмче и короче, которым была бы обозначена «форма», профессионально рассуждающая на гуманитарные темы – при том, что в отрыве от «гуманитарной сути» - от конкретного человека (так сказать – «метафизически»), при том, что «до безобразия логически», при том, что и «на птичьем языке» - из репертуара «вакханалии терминов». Но есть, есть еще «темы», которые «видит око», да «очкастый клык» неймет – и, развеиваясь, полетела-то тогда в пустоту «золоченая россыпь слов» в извечном болтливом императиве «заполнить бесконечность вселенной». А вот, кстати, и Пушкин – «в исполнении» Абрама Терца, которым как наша «академическая», так и «околонаучная» элита в связи с ее застолбленными критериями «золотого века поэзии» осталась крайне недовольна, а Ляля Ципина за покушение на «мифологему величия русского гения» вообще отшвырнула автора «Прогулок…» за «ниже нижнего» в табели о рангах:
Казалось бы, трудно назвать книгу о Пушкине, в меньшей степени способной стать прологом к выражению восхищения… ))
Но уважаемому «рецензенту рецензента» не мешало бы вспомнить, что свобода, с которой Синявский «обращается с Пушкиным», - это НАША свобода, это полная свобода – которую каждый из нас может позволить себе лишь в среде самых близких – тех же детей или (= «и») родителей, где вас знают как облупленного – со всей «подноготной» и где лукавить, пыжиться или «понтить» не имеет никакого смысла. И потому некоторая «ёрничатость» Синявского вряд ли должна сильно уж смущать – потому что «ТО, что Пушкин» - живо, «непроизвольно-физически» ощутимо и неугасаемо «булькает» в обыденной среде, в бытовом разговоре, как опорная точка «коммуникаций»: «- Кто заплатит? - Пушкин! //- Что я вам - Пушкин - за всё отвечать? //- Пушкиншулер! Пушкинзон!»
Cравните далее у Синявского:
- С именем Пушкина, и этим он - всем на удивление - нов, свеж, современен и интересен, всегда связано чувство физического присутствия, непосредственной близости, каковое он производит под маркой доброго знакомого, нашего с вами круга и сорта, всем доступного, с каждым встречавшегося, еще вчера здесь рассыпавшего свой мелкий бисер.
Вот и кому, спрашивается, из отечественных фигур «предоставлена» такая ЧЕСТЬ «актуального присутствия» Здесь и Сейчас – при том, что «сомнительного» здесь ничуть – в противовес, скажем, «случаям» с теми же «Чапаевым» или «Штирлицем» - персонажами: а) исключительно условными; и б) «значимыми» только в гротескном плане. Пушкин же значим именно «как Пушкин» - со всем своим реальным историческим временем, творчеством и судьбой. Он - несдвигаемая «глыба», Поэт с Большой Буквы - «без имени», Последний Критерий всех оценок – отсюда «собственное имя» обрело «нарицательность», а с ней – и «свободу обращения» как с любым «родным словом». Лермонтову или Тургеневу, да хотя бы и Льву Толстому, при всей высоте их «гения» не дано достичь «уровня пушкина» - потому что их «имена» привязаны к их обладателям, потому что «требуют конкретики» аллюзий и ассоциаций с их произведениями. Они и другие «великие творцы» - значимые меты нашей культуры, но САМА-то «русская культура» - и именно как явление общечеловеческого плана – зачалась с Пушкина, именно им – и «зафундаментирована».
«До Пушкина» - это «древняя Русь», «с Пушкина» - исконная самобытность русских окончательно идентифицируется с «артефактом» Прогресса Культуры, причем почему-то именно через ее пресловутую «периферийность» и выдувается в сквозняк «предсказательная сила» всех цивилизованно-благообразных «концепций истории». Маргинальность России – это не только «гравитата инертности», обусловливающая «хроническую отсталость», но еще и «эффект преломления сред» - где «луч логических истин», искажаясь, вдруг теряет «отчетливость» и «остроту» и рассеивается нафиг где-то там, «в необъятных просторах Евразии». Естественная «отстраненность» русских от центра флуктуаций общеевропейской мысли – это еще и отстраненность ОТ АБСОЛЮТИЗМА вымученных там «логических истин»: не «истиной» - но «диким», еще стайно-гоминоидным СТРЕМЛЕНИЕМ «к истине» характеризуется «русская правда» - искони подозрительная к «нашествию авторитетов» и неуспокоенная никакими «одежками рефлексии». Вгрызться в суть – вот вектор «местного» отношения к «плодам цивилизации», при том, что ни один «гуманитарный постулат» априори не выдерживает проверку «как опытом, так и временем», что, собственно, окончательно и зафиксировал Ницше. И эта отечественная аура смогла, наконец, дождаться Своего Гения – причем, несусветно-исключительного по мощи, а еще – в чем русским безусловно и несказанно «повезло» - и «поэтического» по дару. Т.е., попросту говоря, «феномен» Пушкина в том, что он для русских – ИСТИНА, и все, что ассоциируется с «истиной» изначально - это Пушкин: только с этой «заданной им планки» задействуется Мерило всего русского творчества – вдруг «одним прыжком» в истории вынесенное на гребень общечеловеческого гуманитарного поиска и просто вынужденное теперь «жить гениями». Так ведь и коснулся же он ВСЕГО – практически «на каждой странице» нашей ментальности «проставил свою печать» и это осуществленное «право первой ночи» никому у него не отнять:
Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся - всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.
Пушкин, помимо того, что был «первым» нового витка «отечественной ментальности» и тем самым навсегда оставшийся «непревзойденным образцом» (как Гомер для античности, как Вергилий для итальянцев, как Шекспир для англичан, как Сервантес для испанцев, как Рабле для французов, как Гете для немцев), - «растворен» в любом русском, «растаскан» по персональным «тезаурусам», и потому его «озвученное слово» - это всегда и обналиченная частичка каждого «личного Я», высвечивающая «индивидуальный контекст» на фоне Общего. Именно поэтому ТОЛЬКО РУССКИЙ и «имеет право» на «собственного Пушкина» как на искони «национальную собственность» - при том, что «из уст иностранца» подобное же «обращение с ЕГО именем» как минимум «претит» и нутряно отторгается словно «святотатство». И именно поэтому – с подтекстом «пушкинского идеала» - совершенно идиотский, «пустопорожний по форме» пассаж Гоголя вошел в анналы перлов отечественного юмора:
"Бывало, часто говорю ему: "Ну,
что, брат Пушкин?" - "Да так, брат",
отвечает бывало: "так как-то всё..."
Большой оригинал".
Только представить себе, как «ржал и бился» сам Пушкин над этим своим портретом «большого оригинала» при первом чтении автором пьесы «Ревизор» на «субботе» Жуковского в январе 1836 г!...
Вообще, Пушкин для русских (= «русскоязычных») настолько «родной», настолько «наше всё», что мы как бы не замечаем его – мы «просто» ЕГО ПОЛЬЗУЕМ: как то, что нам как бы «уже безвозмездно дано» - как жизнь, как «просторы Родины», как язык, как «российский менталитет», как родные и близкие, как исконная традиция и культура. При этом далеко не факт, что многие «в него вникают», разбираются в его «заслугах», чувствуют «высоту гармонии» его шедевров – но ОН всегда как бы «про запас» и вот об этом ЗНАЮТ ВСЕ. Т.е., Пушкин всегда открыт, доступен – лишь бы достало желания «войти в распахнутые двери». И вот закономерность: чем больше «объемлешься поэтом» - тем выше ИМ восхищение и всегда непосредственно, и никогда наоборот, и дальше – больше, больше…, при том, что «живой Пушкин» никогда не озабочивался «стать иконостасом». Просто заданный им «стандарт качества» Его Жизни пронизан столь высоким Идеалом, что кажется и превзойти его нельзя – хоть бы каким боком «к нему прикоснуться»! Поэт и «поэзия» слились в нем в вершинной иерархии «структуры личности» и в видах этой «конечной точки» все мелочи жизни оказываются не более чем «муравьиными хлопотами» у подножия холма.
Поэтому-то «образ поэта» у Синявского отнюдь не «карикатура, шарж, анекдот» (см. у «Ляли»): две ипостаси Пушкина – творческая и житейская – далеко не равнозначны «по звучанию», хотя и нарочито сопоставимы «по объему». Главное – «гений поэта» - никоим образом не ставится «под сомнение»:
При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе.
Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче…
А Дельвиг? Раевские? Бенкендорф? Стоит произнести их приятные имена, как, независимо от наших желаний, рядом загорается Пушкин и гасит и согревает всех своим соседством. Не одна гениальность - личность, живая физиономия Пушкина тому виною, пришедшая в мир с неофициальным визитом и впустившая за собою в историю пол-России, вместе с царем, министрами, декабристами, балеринами, генералами - в качестве приближенных своей, ничем не выделяющейся, кроме лица, персоны.
А подчеркивание жизненного подвига Пушкина – отдавшего себя на заклание ради «поэтического слова», никаких «дивидендов», кроме подлинности наполнения чувства собственного достоинства, не сулящее:
Это был вызов обществу - отказ от должности, от деятельности ради поэзии. Это было дезертирство, предательство. Еще Ломоносов настаивал: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!" А Пушкин, наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходят в босяки.
Какого большего «благодушия» к Поэту нужно «нашей Ляле» - кроме прямо высказанной Синявским «любви…, граничащей с поклонением», образа «прекрасного подлинника» - «доискиваемого» автором, оценки той эпохи как сугубо «персонально-пушкинской» со свитой-шлейфом из «царей, министров, декабристов» и проч.? Разве не ясно, что «рецензент» за деревьями здесь не видит леса, что «Ляля Цыпина» пошла на поводу у «стилистического приема», резкостью и утрированностью «личностных оценок» и нарочитым подчеркиванием «пустоты Пушкина» - для чего-то «более важного» предназначенного? Эпатирующая тенденциозность «текста» только тогда не вызывает отторжения, когда содержит «подтекст» и именно такой «по массе» - как у скрытой под водой части айсберга, т.е. начисто перевешивающий «видимое на поверхности». И «имеющий глаза» - да видит:
В письме французскому переводчику Синявский напишет: «Скажу прямо: Пушкин там (в „Прогулках“) предстает в довольно-таки странном — фантастическом и перевернутом — виде. Это более проза, нежели литературоведение». (Луи Мартинез. PromenadesavecSiniavski. Прогулки с Синявским. Неизвестные письма А. Д. Синявского. Октябрь. 2005. № 11)
Вот именно – «проза»! Которая всегда – с «двойным дном». Т.е., в отличие от литературоведческого исследования, предполагающего скрупулезную расстановку «всех точек над i», мы имеем дело с «псевдо-Синявским» - Абрамом Терцем, хотя и не позволявшем себе «передергивать факты» - но «под псевдонимом» дававшем волю своей фантазии. Вот и спрашивается: применимо ли «Лялино» определение «нуля без палочки» к вылепляемому автором «художественному образу поэта»:
Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная, обезьянообразная харя пойдет ему лучше ангельского личика Ленского, что она-то и есть его подлинное лицо, которым можно гордиться и которое красит его так же, как хромота - Байрона, безобразие - Сократа, пуще всех Рафаэлей. И потом, чорт побери, в этой морде бездна иронии!..
О как уцепился Пушкин за свою негритянскую внешность и свое африканское прошлое, полюбившееся ему, пожалуй, сильнее, чем прошлое дворянское. Ибо, помимо родства по крови, тут было родство по духу. По фантазии. Дворян-то много, а негр - один. Среди всего необъятного бледного человечества один-единственный, яркий, как уголь, поэт. Отелло. Поэтический негатив человека. Курсив. Графит. Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам - негр.
Да образ – на первый взгляд эпатажный, безобразный: «черная, обезьяноподобная харя», «морда», «негатив человека», «графит», «сам – негр». Но сколько любования этим «подлинным лицом», сколько уважения к «безупречному пушкинскому вкусу», сколько восхищения этой «мордой», в которой «бездна иронии»! Вот где «внутреннее содержание» - явно и многократно перевешивающее «внешнюю форму»: «Среди всего необъятного бледного человечества один-единственный, яркий, как уголь, поэт… Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам - негр.» Это ж надо – какой высоты метафора: «Такому и Демон не требуется. Сам – негр»!! Да тут столько «нулей при палочке!... - небось, и пятнадцати разрядов на калькуляторе не хватит «подсчитать»…
Единственное же чем «грешит» Синявский-Терц – это «ассоциативными рядами»: из «современников» никому бы и в голову не пришло хоть каким-то образом принижать «личность» Пушкина – его могли «не любить», «ненавидеть», «завидовать», исподтишка «травить», но чтобы с малейшими намеками о «ничтожности» в лицо – это было чревато… Я уже многократно приводил свою формулу (на форуме сайта «Антропология»): Мы не «умнее» наших предшественников – мы «богаче их ассоциациями», не «знаниями» - а расширением общечеловеческого «ассоциативного поля» на самом деле характеризуется «прогресс», где «новое знание» - лишь «логические кляксы» в общей связности «картины Мироздания». Поэтому-то «наше всё» - оставаясь сердцевиной «флуктуаций словесности», разумеется, теперь - далеко «НЕ ВСЁ»: наш взгляд на мир – и пристальней, и глубже, и шире, но и «разветвленнее» в заблуждениях, «изощреннее» в трактовках, «извращеннее» в доказательствах. И «Абрам Терц» ничуть не виноват в том, что приобщен к этому «опыту человечества», - он просто «дитя СВОЕГО времени»: но весь свой богатейший ассоциативный арсенал и скрупулезнейшее знание творческого наследия Поэта он подчиняет «научной методологии», так сказать – отдает на заклание Логике.
Доминанта «логики» в головах давно уже не соотносится с некой ОДНОЙ общепризнанной Истиной, но способна постулировать множественность «точек отсчета», из которых «убедительнейшим образом» выводятся «в своем разнообразии и антагонизме» и свои «окончательные истины» (ср. у Ницше в «примечании для ослов»: «Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно»). По аналогии с фасеточным зрением, т.наз. Логическое Мышление можно назвать «фасеточным мышлением» - для которого каждый раз и заново актуально лишь «одно прямое изображение предмета» (в отрыве «от остальных» предметов или выделенных в качестве объекта «кусков» Целого), «луч мысли» от которого отражается строго под прямым углом и только поэтому может быть воспринят и «отрефлексирован» (Ср.: Каждая фасетка воспринимает лишь те лучи, которые падают перпендикулярно ее поверхности.). Отсюда - и «мозаичное виденье» Мира, общая картина которого «складывается из множества мелких частичных изображений», приложенных друг к другу и слепленных «слюнями логики». И хотя тем самым сознание получает большую детализацию как «составных частей» так и «связностей» в рамках отдельной предметности, но общая перспектива и целостность Мира для него тают за пределами «разрешающей способности» («Насекомое может видеть на расстоянии максимум около 50 см. и только оттенки»). Не имея иной методологии, кроме «логической», Синявский «заражается» идеей раскрыть «формулу» Пушкина – на Самом Пушкине, т.е. «доказать» обратнопропорциональность взаимосвязи «поэзии» и «суетности жизни». При том, что высота поэзии Пушкина настолько для него «запредельна», что «бытовой конец» этой пропорции «по математической закономерности» с неизбежностью сводится к самому «пределу ничтожности»:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех, ничтожней он.
И – начинается «мозговой штурм»:
Нет, господа, у Пушкина здесь совершенно иная - не наша - логика. Потому Поэт и ничтожен в человеческом отношении, что в поэтическом он гений. Не был бы гением - не был бы и всех ничтожней. Ничтожество, мелкость в житейском разрезе есть атрибут гения. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягивающими человека к Поэту, значит нарушать волю Пушкина в кардинальном вопросе. Ибо не придирками совести, не самоумалением и не самооправданием, а неслыханной гордыней дышит стихотворение, написанное не с вершка человека, с которого мы судим о нем, но с вершин Поэзии. Такая гордыня и не снилась лермонтовскому Демону, который, при всей костюмерии, все-таки человек, тогда как пушкинский Поэт и не человек вовсе, а нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего, и они, вместе с его пустой оболочкой, копошатся в низине, как муравьи, взглянув на которых, поймешь и степень разрыва и ту высоту, куда поднялся Поэт, утерявший человеческий облик.
Какая буйная экспрессия, какие ряды антитез, какие эмоциональные искры от скрещивания лезвий полярных понятий, какие крайности выводов из взаимоисключающих представлений – вот она НАША АССОЦИАЦИЯ, вот он наш развращенный «ум»! Да только «антагонистическая яма» - это рефлекторная «яма-провал» Самого Синявского: это для него она расширилась в «непроходимую пропасть» за полторы сотни лет, тогда как «у Пушкина» этого «обрыва» еще в помине нет и некоторую «связность» между Поэтом, «утерявшим человеческий облик» в «неслыханной гордыне», и оным же в «ничтожно-приземленной ипостаси» мы все же еще способны узреть – и не где-нибудь в «россыпи черновых листов», а в той же самой законченной поэтической форме, где между «крайностями» у Пушкина всегда есть «переход» - предполагающий Единство художественного образа, а с ним – и его «вещность», скульптурную осязаемость:
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон…
Для Пушкина «целое» не подлежит разъятию – его «стереоскопическое зрение» видит всю форму, а с нею – и ее «смысл». «Научная же методология» должна обязательно «рассмотреть объект под микроскопом», а еще лучше «разломить Целое на куски» – с тем, чтобы попытаться уловить «связывавшую их в Единое» закономерность. Т.е., «наукообразность» гуманитарных отраслей – это не достижение современной «строгой мысли», это ее ПОРОК, и как бы не противостоял автор «Прогулок» - академии, его дифференцирующее мышление «все того же поля ягода». Расчленив поэта на «гения» и «собственно человека» - он вынужден «оживлять» части «автономными» ассоциативными рядами, но в итоге создавая лишь иллюзию объективности - и именно потому, что «к его времени» человечество «как раз» создало колоссальный запас «ассоциативной прочности». Одно то, что Синявский ухитрился запихнуть в Пушкина «лермонтовского Демона» - о котором тот по известным причинам и понятия не имел – уже некоторым образом снижает «историчность» авторских оценок. А что такое «в небе открылась брешь и между ней и землею ходят токи воздуха»: ведома ли была «тогдашним миропредставлениям» ГРАНИЦА между «атмосферой» и «вакуумом»? «Черная раса, как говорят знатоки, древнее белой…»: «знатоки» это кто – «эволюционисты», но научные «антропологические дискуссии» не могли возникнуть ранее последней трети XIX века, именно – после публикации дарвиновского «Происхождения видов»… И кроме того, что в тексте подспудно присутствуют элементы «психоанализа Фрейда» (противопоставление «сексуального инстинкта» - «инстинкту Я»), само оперирование Поэтическим (= «образно-ассоциативным) и Утилитарно-практическим (= «логическим») «мышлениями» - прерогатива собственно «экспериментальной психологии», а это уже – XX век.
Иными словами, сама «идея» разрыва и антагонизма в поэте «гения» и «терцезлодейства» - продукт обогащенно-извращенного «в своем развитии» менталитета: Синявский лишь провел эту «линию» до конца – причем, безусловно талантливо и эффектно, - и неприятие его «картины» Академией и «окололитературоведением» отнюдь не из разряда «неприемлемости эстетических трактовок», а - из «мистического ужаса» перед собственным «кривым отражением» в увеличительном зеркале. Но то, на что в своей «прозе» Абрам Терц имел полное право – как бы выпуская «своего Пушкина» на волю – «резвиться», в подавляющем большинстве эстетствующих штудий просто остается за кадром и в угоду наукообразным шаблонам «солнечное слово» Поэта подвергается вивисекции, «темнеет» - как видимое лишь сквозь затемненное стекло. Именно потому Пушкин так до конца и не понят – хотя вроде бы и описан «в мельчайших деталях» и «со всех сторон» – что САМА «суть искусства» до сих пор «под вопросом» и общепринятой «дефиниции» ему нет. И виной тому – Логика, «логика в головах» - как МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ «основа мышления». Парадокс здесь в том, что художники творят «по каким-то» особым законам, а оценивать их пытаются из неких «систематических соображений», то бишь – из «причинно-следственной внятности» и «наукообразной традиции». На самом же деле – не «логика», а СМЫСЛ является «доминантой сознания» (и лишь В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ по степени обнаженности Внутренней Силы – «поэтического»), причем именно - «чистый смысл» в его «материалистической» ирреально-иррациональной ипостаси и неразрешимости (об обосновании этого мировоззрения – более подробно на сайте «Антропология»)…
Искусство и есть «хранитель Смысла»: его право «преемника Религии» в том и состоит, что в противовес определенности «креационистского решения» - его ядром является НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ «проблемы смысла жизни». С ним на арену мировой истории и культуры выходят «личность», «автор», «субъектость». «Ядерные реакции» смысла – суть индивидуального сознания. Ни для кого, кроме «личностного Я», смерти не существует: в объективированном виде, «в природе», смерть – лишь форма «взаимопревращения», так сказать – необходимый элемент «кругооборота воды в природе», или иначе «по факту» - ЕЕ НЕТ, она – «ВЫДУМКА» исчезающее малой «крохи Вселенной» вдруг вообразившей себя «микрокосмом». Только «из черти откуда» возникшей «субъективности» сознающее себя «Я» способно озаботиться «СВОЕЙ перспективой» - исходя из ни с чем не сравнимого «своего» - И ТОЛЬКО СВОЕГО – «страха и ужаса перед небытием», чем, собственно, и обусловлена бессмысленность ВСЕХ «общинных решений» Проблемы. Т.е., «смысловой вопрос» изначально как ирреален, так и иррационален, и изначально же, еще на отсвете зари становления Сознания «настоятельным императивом к решению» подменен «объяснением мира». Но внутри любой общности, любого «окончательного решения» он всегда незримо присутствует «в чистом виде» - как кипящая огненная мантия в сердцевине Земли, и в ответ на ЕГО «императив правды» осуществлена вся «метафизическая движимость» религиозных представлений от простейших «форм одушевления» до «монотеистически-вселенских» Богов. Иными словами, только в Отдельном Человеке «смысл» реализует себя как «неуёмное стремление к Истине» - чем и предопределена общая «творческая природа» его Сознания.
Вычленив Смысл своим «предметом», искусство каждой Личности предоставляет личный же опыт – притом, что «опыт» гениальных умов – способных не только к созданию новых художественных форм, но и к открытию новых граней смысла. У Смысла нет и не может быть «рационально-логических решений» - только некие «воплощения»: он всегда неуловим «как солнечный зайчик» - и любое крупное художественное явление это лишь Грань на «темной материи» вращающегося «самого по себе» Алмаза Смысла, которым в искусстве Художник как «связан» по замыслу, так и «развязан» в свободе реализации. Отсюда в искусстве приоритет «осмысленной» (= подтекстовой) художественной формы: эта форма и не может быть никакой иной, кроме как «художественной», поскольку «эквивалента» Смыслу в реальности нет – соответственно и его форма творится исключительно фантазией. Т.е. для генезиса искусства главное «традиция» - Собственная Традиция, искони – во всех исторически зафиксированных «эстетических системах» - берущая начало в Образцах: эти-то «образцы» и были «сгенерированы» Ренессансом, придавшем этой «форме общественного сознания» общечеловеческий масштаб. Иными словами - в искусствоведческой конкретике: «предмет» искусства – это Человек в его движении к идеалу (не «идеал» и не «просто человек»), его «функция» - побудить человека к совершенствованию, его же однозначная суть – «творить жизнь» КАК ДОБРО.
Эти, казалось бы простые и во множестве «инвариантов» произнесенные «истины искусства», с данной определенностью - НЕ МОГУТ БЫТЬ произведены «дискурсивным мышлением», поскольку логике непременно нужны «твердые» точки отсчета – которые исключены в ирреально-иррациональном «провале» Смысла. Методологии «Логики» и «Смысла» взаимоисключают друг друга: и если естествознание на основе обобщения фактов все же «поневоле» пришло к признанию «ирреала» («темная энергия», «Большой взрыв», «математически-виртуальная» десятимерность Теории Струн и проч.) – притом, что опуская в бессилии руки при его «определении», то гуманитария, «за неимением Бога», должна исходить из него - из Ирреала Смысла, но тогда и 99% ее «бытующих истин» канут в лету: вот она глубокая, древняя и дичайшая «апория» гуманитарного знания – и кому из «логических умов» пришло бы в голову выводить Сознание «из пустоты»?...
Между тем, главный парадокс «эфемерной летучести» Смысла как раз-таки не в том, что он «в чистом виде» не может быть «рационально разрешен», а в том – что ОН ЕСТЬ! Он – «есть», если мы «принимаем жизнь», если она априори - «добро», если мы «по рождению» благодарно-благородны за то, что «есмь Я». Его – «нет», если мы исходим из «отражения» взаимодействующих форм (как в «живой» и «неживой» Природе), если у Сознания выискиваем «естественные хвосты», если наша собственная «неповторимая» Субъективность – на пупковой привязи у «в реальности Несуществующего»: «прошлого» или «будущего». Мы «имеем смысл» - и именно Личностный Смысл - в жизни докуда, пока видим в ней «свою перспективу» - т.е. возможность наиболее полной самореализации. Именно на ее основе только и может взрасти подлинное «чувство собственного достоинства» - а с ним и обретение «морального императива» противопоставления Себя – смерти. И только Творчество – та «нескончаемая идея», которой «отвечает» и которую «индуцирует» Смысл.
И вот в этих «интуициях» Синявский блестящ: «пустота» Пушкина у него не просто Пустота – в которую все проваливается «без остатка и следа»: это Ёмкость – с «габаритами пустоты», т.е. Вместилище Всего (Пушкин же «что-то» все-таки до нас «донес» - судя хотя бы «по цитатам» автора). Взросши на почве «аморфных истин» и гораздо «полнее иных» пропитанный национальным пафосом «стремления к истине», Гений Пушкина все вокруг видит и отчетливее, и яснее, и шире; и «без прикрас», без малейшей примеси метафизики и обожествления - чувствуя и восполняясь «прелестью жизни», родного:
Пустота - содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха. Ею прежде всего обеспечивалась восприимчивость поэта, подчинявшаяся обаянию любого каприза и колорита поглощаемой торопливо картины, что поздравительной открыткой влетает в глянце: натурально! точь-в-точь какие видим в жизни! Вспомним Гоголя, беспокойно, кошмарно занятого собою, рисовавшего всё в превратном свете своего кривого носа. Пушкину не было о чем беспокоиться, Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически, "ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом",- благосклонно и равнодушно.
В этом поэтически воплощенном «чувстве» – реализует себя пушкинский восторг «полнотой бытия»: с него Его Благословение «добра жизни» становится неотъемлемой метой национального характера. Именно потому он – и «Начало», именно потому – и растворен в Каждом, избранным Русским Языком как «родном»:
… Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст…
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять
Какой уж тут «пафос количества» или «болтовня» как «осознанный стилистический принцип» - когда восприятие и выражение «всей полноты бытия» Пушкиным здесь же «в тексте» прямо подчеркнуто и самим Абрамом Терцем:
Именно полнота бытия, достигаемая главным образом искусной расстановкой фигур и замкнутостью фрагмента, дающей резче почувствовать вещественную границу, отделившую этот выщербленный и, подобно метеориту, заброшенный из другого мира кусок, превращает последний в самодовлеющее произведение, в микрокосм, с особым ядром, упорядоченный по примеру вселенной и поэтому с ней конкурирующий едва ли не на равных правах. Благодаря стройному плану, проникающему весь состав ничтожного по площади острова, внушается иллюзия свободной широты и вместительности расположенного на нем суверенного государства.
Здесь, в открытии «нового бытия», для Пушкина Чистое Поле и Миссия – «дать ему взрасти, зацвесть», здесь Поэзия – «как образец», здесь практически любой Образ поэта настолько целостен и выпукл – что просто вопиет «о смысле»! Вот где корень пресловутому «салонному пустословию» - они живые меты «терра инкогниты», следы первопроходца «на лунной пыли», явь Поэта для потомков «как есть всего» - но Нового, Эпохального – и одновременно «легкого», «небрежно-эскизного», «мелькающего по верхам» («Вновь я посетил…»). «Пушкинские пределы» – и это поныне толком не «зарефлексировано» и лишь «чуется», да и то исключительно «носителями языка», - это в прямом смысле «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»: подобное пророчество Гоголя сродни разве что «виденьям апокалипсиса» Отцов Церкви, веще предчувствовавших исчерпанность потенций христианства к концу II тысячелетия нашей эры. Пушкинский мир – это мир «без Бога», без волевого императива Самодействующего Начала, это мир «самодействующей» Личности – это до сих пор «непревзойденный образец» примата Собственного Смысла и Самореализации в Творчестве. Это ПРИМО-воплощение исконно-смыслового человеческого начала – это «чистый» homo sapiens sapiens, но уже вначале нового витка развития – пропитанный, но и превзошедший «накопленную гуманитарную традицию», да к тому же и научившийся «довольно сносно» выражать мысли. И кто сказал, что «новый человек» будет «изо льда» и «металла»?...
Разумеется, «знай это» Синявский – и вся «сниженная лексика» автора «Прогулок…» была бы ему совершенно непростительна, но даже и «просто» непредвзятому взгляду ясно, что «тяжкая дань» дискурсивному мышлению лишь «по объему» соответствует его «чувству Пушкина» и никоим образом не дезавуирует его «по сути». «Сам» же Синявский в писанном гораздо позже и «без полемики» - именно «по–пушкински» благословляет жизнь:"Чему учит жизнь, так это быть благодарным. На стандартный вопрос — как поживаете? — в молодости отвечаешь: «ничего» (с оттенком — «неважно»), в зрелости: «нормально», в старости: «слава Богу»...
Собственно, а что такое «салонное пустословие» во фразе Терца «Салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло»? Прямой смысл «словосочетания» явно режет слух и в нем конечно больше эпатажа, чем смысла, и более того - любое другое «причинение Пушкина» ему аналогично, поскольку все того же «рационального порядка» («иррациональные» мы не берем во внимание – т.к. они все в лучшем случае невнятны). Но ясно же, что «салонное пустословие» было прерогативой не «одного только» Пушкина, да и «склонных к рифмоплетству» среди современников Поэта было предостаточно: какова же связь «пустословия» и его Поэзии – если не поверхностная и не надуманная? Ну да – «гений», но прежде чем ему в полной мере реализоваться, Пушкину все же надо было достичь уровня Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и проч., кроме того, что – и «иноземных» авторов (тоже – каких-никаких «гениев»). Так и мало того – надо было открыть и «врата нового», при том, что и «Руслан и Людмила» - если и «вершина», то все еще – «той поэзии». Иначе говоря, прежде чем – и это до банальности очевидно – гению достичь «своего уровня», ему необходимо «дозреть», и вот один только этот «фактор времени» уже опущен «рецензентом Пушкина». Пустословие, «кажется», процветало еще и при дворе Екатерины: и вот чего бы, спрашивается, не засунуть в люльку «Алексашке» свиристелку – и дуй, дитятя, себе на здоровье в унисон «пустословию света»! Так в радости к научению слов («при гении») и станешь «сразу поэтом», а там, глядишь, и лицей побоку – уж в «Великие» записан… Вот и черта ли «это время», когда все уже есть – типа там «готовой схемы»: и «имярек с наклонностями», и «салонная ментальность», и гладкая дорожка к «наше всё»!
Но слишком наивно было бы полагать, что Синявский не предполагал такого «хода мысли» У СВОИХ «рецензентов». Писаны-то «Прогулки…» в тюрьме, в разгар брежне-сусловского «закручивания гаек» и было бы вполне естественно этот необычный и остроумный – но примитив, бросить как кость собакам-цензорам «для грызни и отвлечения». Мог ли тогда автор предвидеть свою судьбу и всерьез надеяться «без этого» на публикацию, когда он в сознательном возрасте застал и Войну, и сталинские репрессии, когда он вполне отчетливо понимал, что для тоталитарной машины жизнь отдельного человека не более чем мелкая разменная монета. И когда после отбытия семилетнего срока его в 1973 выпустили из СССР да еще и в Сорбонну – это не иначе «что-то в лесу сдохло»! И сохранил «человеческую линию» Пушкина в первой публикации за границей Синявский в 1975 году скорее всего именно потому, что без нее опус потерял бы весь свой «экстравагантный шарм» и превратился бы в очередное «признание в любви» к Поэту. Более того, «салонное пустословие» настолько емкое, хотя и нарочито сниженное, понятие, что им автор «в лице Терца» просто прикрывал ту невероятную Огромность, которую он без сомнения чувствовал в Пушкине:
"... Да, Пушкин показал нам Поэта во многих, исчерпывающих, вариациях, в том числе - в независимости ото всего, от мира, от жизни, от самого себя. Дойдя до этой черты, мы останавливаемся, оглушенные наступившей вмиг тишиной, бессильные как-либо выразить и пересказать словами чистую сущность Искусства, едва позволяющую себе накинуть феноменальный покров.
Именно эта «вторая» - и главная! – линия сочинения Синявского и позволяет «трактовать» его термины и в свете сказанного тремя абзацами ранее - полагать, что «развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло» Пушкин именно тогда, когда увидел «просторы» Своего Поэтического Предназначения (ср. - с «салонным пустословием»), когда вполне ощутил в себе силу пойти только им увиденной и никем не хоженой дорогой. Вот когда «он стал гением» - может быть лишь иногда и шутя побрякивая в кармане «свиристёлкой Терца». Вообще, у автора «Прогулок…» последовательность «двух линий» Пушкина – только кажущаяся: временной план («диахрония») на «нижнем этаже» скомкан и развеян, тогда как «синхрония» равновесия и симметрии композиции «вверху» явно смещена к доминанте Пушкин-Искусство. Но идентифицируя Поэта и Поэзию – «факт их слияния» он лишь констатирует, тогда как «до смысла Пушкина» Синявский так и не дотягивается.
У пушкинского Поэта (в его крайнем, повторяю, наивысшем выражении) мы не находим лица - и это знаменательно. Куда подевались такие привычные нам гримасы, вертлявость, болтовня, куда исчезло все пушкинское в этой фигуре, которую и личностью не назовешь, настолько личность растоптана в ней вместе со всем человеческим? Если это - состояние, то мы видим перед собою какого-то истукана; если это - движение, то наблю |
|
|
|
|
раздел:
0 | прочтений:
1740 |
Отзывы на этот отзыв:
| ►►►►►►2010-08-10 18:12:47 Граф Оман
aa | Ваши рассуждения очень интересны и поучительны. Конечно, во многом Вы правы. Да и Синявский написал о Пушкине удивительно хорошо (о настоящем Пушкине – а не о памятнике, который воздвигли в своих умах благодарные потомки).
А почему Вы считаете, что Пушкин не служил? Камер-юнкерский мундир он не жаловал, но от должности не отказался. Ну, а о его просьбах об отставке написано немало. От чего бы ему хотелось отставиться, если не от службы?
Спасибо Вам, что встали на защиту Абрама Терца, которого мы понимаем лучше, чем его критиков. Многих сбивает с толку форма изложения, за которой готовы увидеть [...] |
| ►►►►►►►2010-08-10 20:54:55 zadoj
aa |
Уважаемый "Граф Оман"!
Я, честно говоря, не уверен, что вам "достался" полный текст "моего Терца". Здесь он оборван "на самом интересном месте" - но вроде как "Крыса" опомнилась и где-то там "в кушерях" выдала "окончание" по цифирью "часть 2". "Где" - указать точно не могу (но сам видел), поскольку с трудом ориентируюсь в здешних "катакомбах" - да к тому же "поражен в правах" и не повсюду допущен. Я уже (тоже "где-то") давал ссылку на форум сайта "Антропология", где работа помещена полностью - да к тому же "в цвете", что по-моему делает [...]
|
|
страница 0 |
|