
|
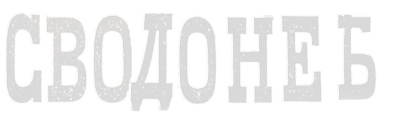
|

|
| Вернуться к списку: |
| Автору: |
| Сейчас по Гринвичу: |
| На сайте: |
| Недавно посетили: |
Сейчас
в Чухломе и Кологриве:
В Яунпиебалге и Бобруйске:
В Акюрейри и Уагадугу:
|
Произведение: Ян Бруштейн Около СМОГа Дружище мой! Прости, что не раз жаловался тебе на мою нескладную поэтическую судьбу, что, мол, заклевали меня в далекой молодости совписовские вороны и тем отбили на многие годы желание писать стихи. Пришло время, и у меня наступило прозрение и просветление мозгов. Зря ругал я моих немилосердных критиков и вообще местных наших письменников. Все к лучшему, что ни происходит. Я намедни случайно нашел ту самую рукопись, которую подавал в Ивановский союз писателей в каком-то там 197... году. Перечитал и понял, какое благое дело они для меня сделали, отвергнув и потоптав до полного почти умирания - невзирая на их мотивы. В той рукописи было непростительно мало откровенно тогда "непроходных", а сейчас особо ценимых читателями, если они не врут, стихов "юного Яна", и много трескучих, подлаживающихся под совок, идущих не от души, но от моды или желания понравиться цензорам. Много "социального оптимизьма", в целом мне не очень свойственного. И от необходимости всем этим заниматься, подобно множеству, они меня избавили. Осанна им! Ну и что - много лет почти не писал стихи?... Значит, так надо было. Вот, накопилось. Так что жизнь произошла правильно. * * * Знаешь, вдруг вспомнилось – как вчера… Мне довелось в 1965 году быть знакомым, точнее - познакомленным с Лилей Брик. Меня привел к ней кто-то из смогистов, кажется – Леня Губанов. Она уже тогда была сморщенная, крошечная и сильно нагримированная. С острым взглядом и уверенным голосом. Все перед ней робели, я так вообще ни слова, кроме почему-то "счастлив познакомиться", не решился произнести... Потом однажды мы столкнулись в фойе Театра на Таганке, перед спектаклем "Антимиры", куда я прорвался на "стоячее" место. Она пристально так на меня глянула и бросила кому-то: "Этого мальчика я знаю", и ушла с ореолом вечности над головой. Мне, оторопевшему, осталось только поклониться вслед. * * * Ты спрашиваешь, кто меня спроворил познакомиться с Леней Губановым? В 65-м шестнадцатилетним пацаном я поступил на Отделение классической филологии в МГУ. Что меня туда занесло? Красивое название, видимо. Учился я преотвратно, и был бы, думаю, с позором изгнан за неуспеваемость где-то после летней сессии. До изучения ли мертвых языков мне тогда было… Куда интереснее жаться по углам, сгорая от смущения, в мастерских Вадима Сидура и Эрнста Неизвестного, слушать умных людей, порой даже поющих, как, например, казавшийся мне совсем старым красавец Галич… Бегать за портвейном и даже распивать эту гадость с великим и ужасным Толей Зверевым… Вот, на стене в знакомой тебе комнате висит его рисунок, подаренный моей жене много позже, прямо-таки пушкинский, смотрю и чуть не плачу. В университете я сразу пришел в местное литобъединение «Бригантина». Там были хорошие «официальные» поэты – Миша Шлаин, Саша Бродский. Они меня называли юнгой и во время многочисленных поэтических вечеров выпихивали на сцену Коммунистической аудитории, отбирая для этого самые мои «романтические», а попросту дурацкие стишки. На одном из таких вечеров, втором или третьем, произошел скандал: во время произнесения виршей каким-то комсомольским поэтом в рядах начали вскакивать некие молодые люди и выкрикивать свои тексты, из которых я улавливал лишь отдельные, но такие непривычно сильные и образные строчки. А на сцену был брошен клок бумаги, на котором читалось: Сидят поэты в «Бригантине» Как поросята в тине. Нарушителей спокойствия вывели из зала строгие дружинники, но вслед за ними «вывелся» и я. Как за дудочкой крысолова. Так и оказался неподалеку от смогистов – Лени Губанова, Володи Батшева, Володи Алейникова… Увы, совсем ненадолго. Членом СМОГа так и не стал – по молодости, робости и неприхотливости текстов. Но на Маяковке со стихами засветился, и даже был удостоен визита, пользуясь термином Аксенова, в «прокуренцию». Так что с греко-римского отделения меня поперли уже не столько за учебное разгильдяйство, а скорее за не те, не там и не с теми читаные стишки. И отправился я на три невозможно длинных года в армию, умудрившись зацепить даже небольшую малоизвестную войну. Но это, как принято говорить, совсем другая история. * * * Встречал ли я кого-нибудь из смогистов и последующие времена? Нет, не совместились мы больше в этой жизни. Разве что мелькнул где-то на случайных параллельных курсах Кублановский, ненадолго женившийся на одной ивановской музейной даме, но по Маяковке я его не помню. Да еще столкнулся как-то с Величанским на открытии некой выставки. Я его узнал, он же меня, естественно, нет. Окрикивать не стал. И все же кольцо обязано было замкнуться. Мы с Надей, ты знаешь, люди коктебельские, еще с тех времен, когда был открыт Карадаг, а на берегу можно было встретить кого-нибудь из старейшин знаменитого семейства Шагинян-Цигалей, прогуливающихся со своими русскими борзыми. Еженощно на пляже, от Карадага до Скалы Юнга, звенели гитары: в одном круге – битлы, в другом – Окуджава, а в ином и тюремная лирика... Спать ночью в том Коктебеле было зазорно и обидно, добирали дрему днем на пляже, обгорая до головешек. Теперь того Коктебеля, говорят, нет, но тянет туда, тянет… Когда немилосердные врачи перекрыли мне пути на юг, Надя, не представлявшая себя без хотя бы недели в Коктебеле, вынуждена была отправиться в Крым одна. В поезде познакомилась с интеллигентной московской семьей, пообещавшей устроить ее к хорошим людям. Так она оказалась… на даче поэта и мудреца Владимира Алейникова. Не раз в то лето мне икалось – разговоры в Коктебеле случались в том числе и о моей скромной персоне. Вот все думаю: соберусь, да и махну в Коктебель. Но разве узнает пшенично-бородатый олимпиец Алейников в грузном седом человеке того красивого, легкого и восторженного мальчика, который вчитывался в его волшебные строчки: Когда в провинции болеют тополя, И свет погас, и форточку открыли, Я буду жить, где провода в полях И ласточек надломленные крылья… Отзыв:
Отзывы на этот отзыв:
|
||||||||||||||||||||
| Свод Законов |
| Канцелярская Крыса |
| Книга Жалоб |
| Миллион значений |
| Пан Оптикум |
| Помощь |
| рецензии |
| Школа дураков |
Все права на опубликованные произведения принадлежат их авторам. Копирование, полное или частичное воспроизведение текстов без разрешения авторов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом об авторском праве. По всем вопросам, касающимся использования размещенных на сайте произведений просьба обращаться непосредственно к авторам, администрация сайта не уполномочена вести какие-либо переговоры от их имени.
