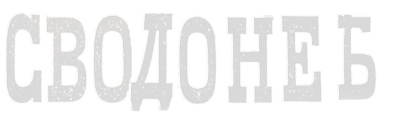(из рассказов о Сапожниковой)
Наверное, всем особенным людям свойственно хотеть быть обычным человеком. И Сапожникова сама хотела того же. Особенно грустно было ей объяснять это Оле, пришедшей к ней в пушкинский день рождения. Да и нужно ли объяснять и можно ли объяснить, что назад возврата нет. То есть есть, но только мыслимо, в памяти, изменяя свои, нет, не воспоминания, а впечатления. С такой целью мы иногда разбираем свои архивы, листаем записные книжечки. Также мы перечитываем любимые книги.
Приход Оли объяснялся очень просто: она хотела провести этот день с каким-нибудь поэтом. Сначала она пошла к памятнику Пушкина. Но когда она пришла туда, то кроме одинокого гранитного Пушкина и мелкого, холодного дождя, там никого уже больше не было. И тогда она пошла к Сапожниковой, у которой не была больше года. У Сапожниковой сидели гости: отец Анны и Олега и его пассия. В связи с последним Оля вспомнила о Катулле, которым занималась последние десять лет, из-за чего даже бросила учёбу в университете. Дело в том, что одно из самых известных стихотворений Катулла о деве и воробушке, которого она любила, а он возьми и умри, было на самом деле совсем о другом. То есть действия происходили именно эти: любовь и смерть. Но воробышка никакого не было.
— `Пассант`, `пассант`, — твердила Оля, — это никакой не воробышек, а пассия, по-русски, любовник. Стали бы читать во всём Риме стишок о воробышке, переписывая, восхищаясь и проливая слёзы.
А Сапожникова молчала в ответ, да и что ей, не римлянке об этом сказать, воспитана она по-другому, по-русски: за мужем до конца... И неважно, кто по национальности муж, кто он по специальности, — раз любишь, выходи замуж и с ним уже иди до конца.
На следующий день приехала Юля Шерстюк, которая уже год как вышла замуж за индуса, родившегося и живущего во Франции. Теперь и она с ним там же, где и он, живёт.
Русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, — вопрос отдельный и неисчерпаемый. И счастливый исход в таких браках также случаен и непредсказуем. Русский философ Розанов как-то заметил, что удачное замужество подобно ситуации, когда засовываешь руку в тёмный мешок с гремучими змеями, а достаёшь оттуда ужа. Юля не менее философски подошла к этому вопросу и поделилась своими сомнениями по поводу благополучия в семьях, которые создаются посредством русско-иностранного разговорника. О какой любви, а значит, и о счастье может идти тогда речь. Они с будущим мужем много и часто разговаривали по телефону, прежде чем оба пришли к выводу, что смогут жить вместе, что не хотят жить друг без друга. И если бы язык их бесед был скуден, то и брак, основанный на нём, был бы заведомо обречён на провал. Но когда Сапожникова попросила Юлю рассказать о её собственном муже Висванатане (домашнее имя: Раби), то Юля задумалась ненадолго, потом улыбнулась и произнесла:
— Как-то раз вечером он вернулся с работы домой, я сидела, как ему показалось, грустная, и он стал расспрашивать меня о моём состоянии. И я сказала, что боюсь смерти. А он улыбнулся и ответил:
— Не смерти надо бояться, а вечности.
А Сапожникова задумалась о своём состоянии, насколько оно близко к жизни и смерти, настоящее ли оно.
И пограничность Сапожниковского состояния стала осязаема как-то сама по себе. Если к ней кто-либо приходит, то она понимает, что человек пришёл, дошёл до края, раз она видит его перед собой. Она держит этот край для всех и никого не зовёт на помощь. Да и редко кто приходит осознанно, а ещё реже приходят те, кто пришёл, чтобы тоже охранять границу и удерживать от крайности других.
И ещё очень мало людей, воспринимающих Сапожникову всерьёз. Как будто она и не Сапожникова вовсе, а клоун какой-то. Впрочем, лучше начинать по порядку.
Очень часто так бывает, что имена людей совпадают, а иногда совпадают и их направления. От этого иногда случаются казусы и ляпсусы. Кто в них попадает, для всех очевидно, и о грустном мы не будем. Разве что слегка, потому что Юля Шерстюк уезжала в день рождения мамы Сапожниковой в Сингапурию к мужу. То есть она туда улетала, но сначала ехала в СПб, откуда самолёты до Сингапурии долететь могут. И Сапожникова была приглашена на торжественные проводы Юли с вокзала города П. Но отъезд должен был состояться поздно вечером, а утро вечера мудренее. И кроме позднего вечера есть ещё ранний. И вот совершенно случайно получив утром после приглашения Юли Шерстюк весёлый «Бонжур», она, эта самая вышеупомянутая Сапожникова, не позволив себе свалиться с небес на голову уже что-то подозревающих прохожих тяжёлыми июньскими грозовыми каплями, в конце рабочего дня мирно сидела на подоконнике под своей лабораторией вместе со Скво и Натой Бабиной. Конечно же, это ещё был не вечер. И из Скво-речника (а кроме из-речений есть ещё Скво-речения) спокойно вылетали одна за другой рыбы с перьями, пока наконец не стало ясно, что стирке подлежит всё, даже ангельские крылья, поэтому-то так нужна вода.
И Сапожниковой хотелось молча парить над городом рядом со Скво, Натой и ангелами и птицами. Но нужно было идти работать, нужно было отращивать крылья для полёта. А вечернее личное её время ознаменовалось приходом в квартиру Сапожниковой сначала дипломницы Маши Сапожниковой, а затем Юли-цезаря, которая собиралась уезжать в СПб на выходные тем же поездом, что и Юля Шерстюк. Встреча с цезарем для Сапожниковой всегда вспышка света, даже если (а они работают в одной лаборатории) эти встречи бывают по нескольку раз в день. Их разговор на кухне с розочками грозил стать бесконечным, если бы не отправление поезда в ровно назначенное ему время.
Простившись на перроне с цезарем, Сапожникова выяснила, что у неё есть ещё три минуты, чтобы помахать другой Юле, Шерстюк. И она побрела по перрону, вспоминая искомый номер вагона, посматривая на всякий случай по сторонам и заглядывая в окна пока ещё стоящего поезда. В одном из окон купейного вагона она увидела любимую Ирину Д. и подошла поближе. Из вагона выпрыгнули одна за другой Ирина и Наташа Макарова, которые обрадовались потерянной ими (да и всем миром) Сапожниковой. И Сапожникова не смела грустить о своём в такую торжественную для всех троих минуту прощания с подругой. Поэтому она срочно разбрасывала в своей памяти обрывки всяких нужных и ненужных дел, чтобы вспомнить, зачем ей нужна была Ирина Д. Ах, да! Чикагское радио!
— Ирина, — жалобно проговорила Сапожникова, — помоги, пожалуйста. Сделай доброе дело, переведи несколько стихотворений с русского на поэтический английский язык.
— Зачем? — Остолбенело спросила давно уже ожидающая от Сапожниковой всё, что угодно, но не такого, Ирина.
— Да у нас тут есть один проект с Чикагским радио. — Договорить ей не дали. Раздался взрыв такого хохота, что Сапожниковой показалось, будто пошёл дождь. Но на самом деле это её глаза набухли влагой от смеха, а в горле стоял непонятный ком, мешающий серьёзно говорить о наболевшей (уже месяц как) проблеме.
— Чикагское радио, Чикагское радио, — только и произносили Наташа с Ириной, заходясь от смеха, когда объявили, что поезд отправляется.
Юля Шерстюк, свесившись из окна, раздавала последние инструкции:
— С тобой, Макарова, мы встретимся, ты (обращаясь к Ирине) пиши.
Сапожникова, понимая, что это последние мгновения, когда она может что-либо ещё услышать от Шерстюк, тревожно спросила:
— А мне какие будут указания?
— А ты, — Юля высунула руку из окна поезда, — иди.., — рука Юли вытянулась в перпендикулярном к поезду направлению. И Сапожникова поняла, что пора идти дальше.
Уходя с вокзала, девочки всю дорогу смеялись, вспоминая Чикагское радио, а Ирина Д. сказала:
— Когда я услышу твои стихи в своём исполнении по Чикагскому радио, то больше мне ничего не останется, как умереть, потому что это будет вершина деяний всей моей жизни.
И Сапожникова, услышав сие высказывание, поняла, что от неё зависит очень серьёзный момент, а именно вопрос жизни и смерти конкретного любимого ею человека, а именно Ирины Д. И поняла, что проект с Чикагским радио отпадает.
Ещё Достоевский заметил, что одна передача по Чикагскому радио не стоит человеческой жизни. Правда, в девятнадцатом веке это звучало несколько иначе. Но тогда не было никакого радио, в том числе и Чикагского.
Всё, по мнению других, придумывающая Сапожникова, которая всё время твердит, что не умеет думать, а только чувствует и сочувствует тем, кто чувствует, и сопереживает тем, кто живёт рядом с ней, на самом деле ничего не придумала. И как только выяснилось, что Юля-цезарь, работающая в филологической лаборатории, по своему образованию биохимик, в голове Сапожниковой замкнулась очередная цепь, а именно: в жизни Сапожниковой-девушки был один биофизик, студентка Харьковского университета, теперь его ведущий сотрудник.
— И чего только в жизни Сапожниковой не было, — усмехнётся читатель.
Но речь не о том, чего не было, а о тех, кто есть. Спрашивается, зачем Сапожниковой что-то придумывать, когда всё и так уже есть, нужно только это всё расположить по своим местам. А места, как помнится, всем хватит. Стоит только найти своё место и пожелать... Вопрос в том, что и кому желать...
Сапожникова — как золотая рыбка, исполняющая все желания. Любое желание любого, кто пожелает. Так что желайте, но думайте сами, чего желаете, и желаете ли именно этого и именно так, или это вам только кажется. Потому что, чего нажелаете, то и получите, и пеняйте на себя, а не на Сапожникову. Тоже мне, нашли козла отпущения. Сказано же было: не дано ей отпущение грехов. Это преррогатива людей, носящих духовный сан.
А на Чикагском радио так и не прозвучали стихи Сапожниковой, и поэтому Ира Д. живет. Мучается, ругается, не хочет жить, но живет и все Сапожниковой это Чикагское радио поминает. Да любящая ее Сапожникова и сама об этом не забывает.
Некогда ей забывать.
|